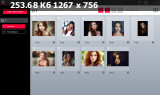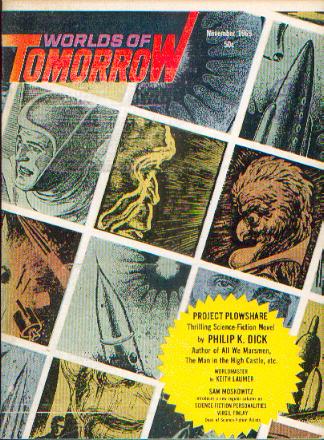Я, представьте себе, собираюсь говорить о грибах.
И тут не только уступка сезонным обстоятельствам, хотя и это тоже, почему бы и нет.
И не только дело в том, что в эти дни в социальных сетях, успешно конкурируя с каноническими кошками и изнурительными склоками по практически любому поводу, замелькали похожие друг на друга, как Добчинский и Бобчинский, картинки с корзинками, наполненными разнокалиберными грибами. Впрочем, и в этом дело тоже.
Но и вообще, так сказать …
Гриб, и как вожделенный и мифогенный объект персональных или коллективных летних экспедиций, и как яркий гастрономический феномен, и, наконец, как устойчивый символ не всегда понятно чего, но точно символ, не может не разжигать воображение и не пробуждать разной теплоты воспоминаний.
Все, разумеется, начинается с детства.
Что бы такое вспомнить сначала?
Ну, допустим, можно вспомнить, как мама, папа, старший брат и я идем по улице откуда-то куда-то. Мне, примерно, четыре года. Солнце, облачка, легкий ветерок. И вот что-то вдруг закапало сверху, прямо из безмятежной и дружелюбной небесной синевы. Прямо на макушку, на уши, на плечи. И, судя по тому, что никто не засуетился, не заторопился, не стал лихорадочно вынимать из сумки зонтики и плащи-дождевики, судя по тому, что кто-то из взрослых весело и беззаботно произнес: «грибной дождик», я понял, что все в порядке, что все хорошо, что все совсем не страшно, что это совсем не тот дождь – с громом и молнией, — которого я так боялся и так боялись все кругом.
Хорошие это были слова – легкие, почти что даже радостные, почти даже и праздничные – мне до сих пор нравится их слышать и произносить. И это при том, все-таки, казалось бы, дождь.
И интересно, что слово «грибной» мне тогда совсем не пришло в голову соединить в своем сознании с «грибами», с тем, что этот дождик как-то способствует появлению из-под земли новорожденных шляпок и ножек. А понял я тогда это слово лишь как «хороший», как «не страшный», как «веселый».
Можно, конечно, вспомнить и о висевшем около моей детской кроватки коврике с изображением огромного ярко-красного гриба, в тени которого, тесно прижавшись друг к другу, притулились две явно чем-то перепуганные белочки. Что так напугало их? Коврик об этом не счел нужным сообщить. Одна из первых в жизни тайн, навсегда оставшаяся не раскрытой.
Или можно вспомнить бабушкин, а потом и мамин деревянный штопальный грибок — видавший виды, весь потрескавшийся, но безотказный и беззаветно верный своему долгу, вроде как стойкий оловянный солдатик.
Как не вспомнить и о стоявшей на холодильнике «Саратов» трехлитровой, накрытой марлевой тряпицей банке, в которой плавало нечто бесцветное и медузоподобное. Это был так называемый чайный гриб, бывший всенародным любимцем в годы моего детства, потом как-то незаметно исчезнувший с холодильников и подоконников, а совсем недавно, как я слышал, вновь негромко вошедший в моду.
Мне было лет восемь или девять, когда однажды я спросил у мамы: «Мама, вот ты всегда говоришь: «Если бы да кабы, во рту росли бы грибы, то это был бы не рот, а целый огород». А что, грибы разве растут в огороде?»
«Да нет, конечно, — ответила мама, смеясь. – «Рот – огород» — это так, для рифмы. А взаправду в огороде растут овощи и цветы. Помнишь, мы с тобой прошлым летом сажали на даче редиску и зеленый лук?»
Помню, конечно. Еще и щавель сажали. И, кстати, «анютины глазки». Помню, ага.
«А грибы растут в лесу. Помнишь, мы летом ездили за грибами с дядей Володей и тетей Галей? На их «Москвиче», помнишь?»
И это я помню. И что в машине меня сильно тошнило, я тоже помню. Не очень-то мне было до грибов, если честно.
С грибами, точнее с их собирательством, с их поиском, у меня всегда были непростые, мягко говоря, отношения. Дело в том, что я с самого детства близорук и просто не видел того, что легко видели другие. Я страшно злился и расстраивался, видя, как какой-нибудь более счастливый соперник, издав короткий победный клик, прямо буквально у меня на глазах и прямо у меня из-под носа выхватывал из-под дерева какой-нибудь роскошный трофейный подберезовик, позорно не замеченный мной.
Моим грибным триумфам существенно препятствовала и еще одна моя особенность, которая, кстати, никуда не делась до сих пор. Дело в том, что я ужасно скверно ориентируюсь в пространстве. В народе такая особенность несколько обидно, но, в общем-то, справедливо, называется «топографическим кретинизмом». И поэтому в незнакомых местах я стараюсь ходить в сопровождении спутника или спутницы. А когда я хожу один, я стараюсь идти по какой-нибудь прямой улице, сначала в одну сторону, а потом — в другую. Если я, не дай бог, куда-нибудь сворачиваю с единственно верного пути, на меня обрушивается настоящая паника, и я не думаю уже ни о чем, кроме того, что вот я уже заблудился и буду тут бессмысленно блуждать до самой своей смерти.
Но если в городах может хоть как-то облегчить мою участь не выпускаемый из рук план города или, что еще надежнее, доводящий до Киева язык, то в лесу…
Вот и по лесу я стараюсь ходить, лишь пристроившись к кому-нибудь из ориентирующихся в дремучем лесном пространстве, и с унылой обреченной завистью наблюдать за его азартными поисками и триумфальными находками.
В общем, мои взаимоотношения с миром грибов всегда были не такими уж лучезарными.
Но визуальный образ гриба всегда почему-то занимал и будоражил мое детское воображение.
Мое пристрастие к грибу как к объекту эстетического любования носило и носит вполне бескорыстный и исключительно возвышенный характер. Дело в том, что я не люблю грибы. То есть, если перефразировать известный анекдот про помидоры, я их ТАК люблю, а КУШАТЬ – нет.
А смотреть на них, трогать их бархатные шляпки – да!
Не тот ли самый упомянутый в самом начале детский коврик сыграл тут свою системообразующую роль? Вполне возможно.
Помню, например, как я помогал маме украсить салат оливье, приготовленный к какому-то масштабному семейному торжеству. Украшение, – я сам его придумал, — имело вид роскошного гриба, как бы выросшего, не иначе как после грибного дождя, прямо посреди салатной полянки. Гриб был сооружен из целого, очищенного от скорлупы крутого яйца, поставленного вертикально, и нахлобученной на него сверху половинки помидора, игравшей роль шляпки. Для пущей красоты поверхность этой шляпки украшалась майонезными крапинками, вследствие чего получался типичный мухомор, гриб, как всем известно, не съедобный. Ну и что с того, — красота ведь требует некоторых жертв, хорошо еще, что всего лишь таких.
Кстати, тема чувствительных человеческих жертв, связанных с проблемой съедобности или не съедобности тех или иных грибов, это тема давняя, можно сказать, почтенная, породившая множество трагических сюжетов как в художественной литературе, так и в многочисленных анекдотах и так называемых случаях из жизни..
Кто-то когда-то рассказывал о том, как какие-то программисты создали какую-то такую программу, которая умела отвечать на различные вопросы.
Это было очень давно, на заре, так сказать, компьютерной эры, во времена ушедших в археологическую пучину мифических великанов, называемых ЭВМ.
Короче говоря, среди прочих вопросов, адресованных умной программе, был задан и такой: «Все ли грибы можно есть?»
Она ответила с чисто кибернетической последней прямотой.
«Можно есть все грибы», — честно ответила правдивая программа. Но решила все же внести некоторое существенное уточнение: «А некоторые грибы, – прибавила она для пущей ясности, — можно есть только один раз».
Разумеется, анекдот. Но хороший.