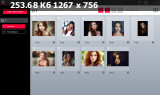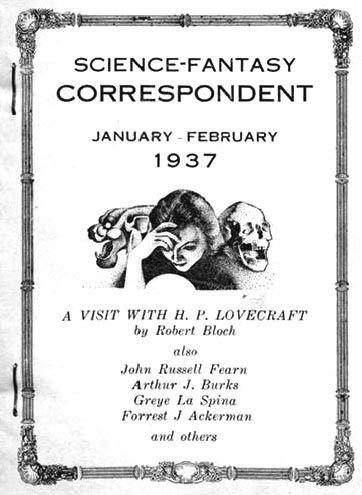Впереди майские праздники и Стенгазета ушла на каникулы.
Всем нашим читателям желаем веселых выходных!
Каникулы!
Уроки Армении
Судя по всему, в Армении победила «шашлычная» революция. После того, как 2 мая оппозиции удалось заблокировать любое движение наземного транспорта (как автомобильного, так и железнодорожного), тамошняя Республиканская партия, пока еще числящаяся правящей, пообещала не препятствовать избранию премьером лидера уличных протестов Никола Пашиняна. А он в свою очередь призвал к прекращению протестов. Таким образом, группировке Сержа Саргсяна, который пробыл премьером всего несколько дней, не удалось взять реванш за счет большинства в парламенте. Уже 8 мая Пашинян будет утвержден «переходным» премьером, чего ему не удалось 1 мая.
Конечно, очень забавляет вегетарианская реакция на происходящее в Армении российских государственных СМИ. Все, мол, нормально, обычное внутреннее дело дружественного государства. Ну свергли лидера, который попытался сохранить власть, отредактировав Конституцию.
Никаких упоминаний о концептуальной речи Владимира Путина на ооновской Генассамблее в 2015 году, где он объяснял, что всякий народ обязан жить с тем диктатором, которому удалось захватить власть. Никаких рассуждений о том, что «цветные революции» — новый способ ведения боевых действий против суверенных государств. Никаких укоров в том, что к власти на наших глазах приходит человек, за партию которого проголосовало всего 8 процентов избирателей. Все эти тележурналисты твердо уверены, что их зрители – клинические идиоты, неспособные задуматься о том, почему «укрофашисты» свергли Януковича незаконно по наущению Госдепа, а Саргсяна мирно и, главное, законно устранили братья-армяне.
Между тем, 7 мая слово «Армения» уж точно будет гореть на всех стенах Большого Кремлевского дворца. Потому что произошедшее в Армении (а до этого на Украине, и в Грузии) убедительно свидетельствует: все эти избирательные манипуляции, игры в конституционные наперстки мгновенно теряют всякий смысл, когда разгневанные граждане выходят на мирные акции протеста. Ну и кому после этого рассказывать про 80-процентную поддержку населения, про радости стабильности при вечном кормчем на галерах. Ведь исходя из армянского опыта получается, что на улицу с протестами вышли те, кто вчера голосовал за правящего автократа. Точно так же те, кто на референдуме 1990 года голосовал на сохранение СССР, в 1991-м ликовали по поводу его развала.
Таким образом, дело за небольшим: вывести на улицу, как в Армении, процентов десять населения страны или хотя бы крупнейших городов. То есть в случае Москвы речь идет о полутора миллионах человек. Подозреваю, что без резкого, катастрофического падения уровня жизни подобное просто невозможно. И здесь, боюсь, заключается самый тяжелый вопрос тем, кто рассчитывает на возможность свержения Путина в результате уличных протестов. Желаем ли мы такой беды нашему народу, чтобы он вышел из своего равнодушного сна и вдруг возненавидел правящий режим? Или мы все-таки будем делать ставку на медленный процесс просвещения этого самого населения?
Другое важное отличие российской ситуации от армянской заключается в том, что на самой ранней стадии кризиса в Армении руководители всех силовых структур ясно дали понять Саргсяну – подавлять протест они не будут. В маленькой стране немыслимо стрелять в толпу: почти наверняка попадешь в знакомого или родственника. В России все иначе. Не зря два года главный начальник создал Росгвардию, которая больше сухопутных войск и которую возглавляет его телохранитель? При этом мы не сомневаемся, что Путин, в отличие от Саргсяна, без колебаний отдаст приказ о подавлении. Поэтому уже сейчас необходимо сконцентрироваться на просвещении силовиков, какой бы тяжелой ни казалась эта задача.
Одним словом, пример Армении ставит перед российской оппозицией вопросы, на которые надо искать ответы именно сейчас, когда правящий режим демонстрирует непоколебимую уверенность в собственной незыблемости…
Писано той же рукой
Ханья Янагихара. Люди среди деревьев. М.: АСТ: CORPUS, 2018. Перевод В. Сонькина
Первое и, в общем, единственное, что читатель на самом деле хочет знать о дебютном романе Ханьи Янагихары, — это похож ли он на «Маленькую жизнь». К сожалению, на этот вопрос трудно ответить однозначно. Да, «Люди среди деревьев» определенно писаны той же рукой, и многие вещи в романе покажутся вам знакомыми — от сюжетных мотивов до имен и названий. И нет, это совсем другой роман, принципиально иначе устроенный, куда менее обжигающий и куда более интеллектуальный.
Семидесятилетний ученый-вирусолог, лауреат Нобелевской премии по медицине, всемирно известный филантроп, усыновивший и вырастивший несколько десятков детей, Нортон Перина оказывается в центре громкого скандала: один из приемных сыновей выдвигает против него обвинения в сексуальном насилии. Ученый категорически отрицает свою вину, но присяжные признают его виновным и он отправляется за решетку — впрочем, на самых мягких условиях: нобелевскому лауреату предстоит провести в тюрьме всего два года, в комфортабельной изоляции, с возможностью сколько угодно предаваться размышлениям и работать над мемуарами. Именно эти мемуары и составляют основу романа.
Словосочетание «сексуальное насилие» сразу же настраивает читателя, знакомого с «Маленькой жизнью», на определенный лад, но лейтмотив «Людей среди деревьев» иной. Большая часть повествования относится не к тому времени, когда герой насиловал (или не насиловал — ответ на эту загадку Янагихара прибережет напоследок) своих приемных детей, а к более раннему этапу его биографии.
Нобелевская премия была присуждена Перине за открытие так называемого синдрома Селены, который встречается у крошечного туземного племени на острове ИвуʼИву в Микронезии и связан с употреблением в пищу мяса реликтовой водной черепахи. Носители этого синдрома фактически обретают телесное бессмертие, которое, однако, чаще всего сопряжено с тяжелой деменцией. Перина прибывает на остров в составе антропологической экспедиции, и покуда его товарищи — профессор Пол Таллент (к слову сказать, выпускник того же сиротского приюта Сент-Фрэнсис, где позднее окажется Джуд из «Маленькой жизни») и его помощница — бережно исследуют быт, традиции и обряды таинственного племени, герой совершает свое революционное открытие в сфере медицины. Однако обнаружив на ИвуʼИву «эликсир бессмертия» и обнародовав этот факт, Перина обрекает и сам остров, и его обитателей на уничтожение. Фармацевтические компании за считанные годы превращают цветущий уголок первобытного рая в пустыню, а после, осознав, что сенсационная находка не имеет практического применения, без сожалений уезжают, оставив уцелевших аборигенов доживать свои никчемные жизни на пепелище.
С этой точки во времени и пространстве для самого Нортона Перины — прямого виновника всего произошедшего — начинается тягостный и безысходный цикл вины, искупления (все усыновленные им дети — оставшиеся без попечения взрослых уроженцы ИвуʼИву и соседнего островка УʼИву, тоже затронутого «лихорадкой бессмертия»), новой вины и новой расплаты.
Все описанное выше могло бы стать основой для романа, буквально сочащегося чувствами и драмой, однако Янагихара словно сознательно сглаживает эмоциональный диапазон своего текста. Нарочито бесстрастный, бессердечный рассказчик отбрасывает длинную тень на собственную историю, и она, в свою очередь, тоже оказывается до странного выровненной, лишенной сколько-нибудь заметных пиков и спадов. Если в «Маленькой жизни» Янагихара мастерски работает на контрапункте — ровный, приглушенный голос автора против кровоточащего объекта описания, то в «Людях среди деревьев» повествовательная манера идеально гармонирует с содержанием. Как результат, даже в самых душераздирающих и болезненных моментах читателю удается без труда сохранять внешнюю позицию, с интересом, но без горячей персональной вовлеченности наблюдая за тем, что происходит внутри текста.
Внутри же происходит немало любопытного: Янагихара размышляет об ответственности и разных ее аспектах, о множественных путях, которыми развивается наука, и о возможности выбора между ними, о постколониальном сознании, о глобализме и локальной идентичности, об относительности ценностей, кажущихся нам незыблемыми, и тому подобных важных вещах. В своем первом романе писательница, намеренно или нет, но удерживает себя в пространстве собственно литературы, не прибегая к тем подлинно магическим практикам, к которым, как мы все знаем, она обратится в «Маленькой жизни». С этой — сугубо литературной, культутрно-интеллектуальной — задачей Янагихара справляется неплохо (пожалуй, даже очень неплохо), но, честно говоря, колдовство удается ей значительно лучше.
Роберт Ирвин. Чудесам нет конца. СПб.: Пальмира, 2018. Перевод Е. Дворецкой
Англоязычные рецензенты дружно рекомендуют новый роман Роберта Ирвина (прославившегося в середине 1980-х культовым «Арабским кошмаром») как результат причудливой гибридизации Антонии Байетт, Хилари Мантел и Джорджа Мартина, однако не спешите доверять этой завлекательной характеристике. Действительно, в «Чудесам нет конца» есть и драконы, и династические войны, и ходячие покойники, и бесконечные культурные аллюзии, но плотность упаковки всего этого, достигнутая Ирвином, исключает любую мысль о легком, необременительном чтении. Пожалуй, это тот случай, когда каждая страница романа идет за две, а то и за три — и по времени, необходимому на чтение, и по трудозатратам.
Действие книги разворачивается в XV веке, во времена Войны Роз. Главный герой, сэр Энтони Вудвилл, молодой и веселый рыцарь, выступающий на стороне дома Ланкастеров, в первой же главе погибает в знаменитой битве при Таутоне — одном из самых кровопролитных сражений, когда-либо происходивших на британской земле. Пережив удивительные приключения в загробном мире, спустя два дня он чудесным образом оживает, и все его дальнейшая судьба протекает в пограничье, на стыке реального мира и мира фантазии. Сэр Энтони переходит на сторону победителей-Йорков, становится приближенным нового короля, теряет любимого отца, встречается с живыми мертвецами и сэром Томасом Мэлори (тот как раз сочиняет роман о короле Артуре, который тут же вторгается в повествованием со всеми своими рыцарями Круглого стола), воочию наблюдает силу алхимии, участвует в охоте на гоблинов, плетет сложные политические интриги, а после, в самом конце, вновь оказывается на стороне проигравших — на этот раз уже без надежды на благополучный исход.
Написанная целиком в настоящем времени (в случае с неспешным историческим нарративом этот прием смотрится особенно странно и искусственно), перенасыщенная культурными коннотациями, сложная композиционно и почти полностью лишенная того, что кэрролловская Алиса назвала бы «картинками и разговорами», то есть описаний и диалогов, книга Роберта Ирвина определенно не то чтение, которое без зазрения совести порекомендуешь человеку, ищущему в книге отдыха и развлечения. Но если вы питаете слабость к изысканным сюжетным и стилистическим шарадам, интеллектуальным играм, медленному чтению и многослойным подтекстам, то роман «Чудесам нет конца» написан специально для вас.
Июнь Ли. Добрее одиночества. М.: АСТ, CORPUS, 2018. Перевод Л. Мотылева
Три девушки, один парень, солнечная осень в старом квартале Пекина. Обманчиво стабильный, а на самом деле стремительно меняющийся Китай конца 1980-х. Шаоай, самая старшая в компании, красавица, умница и бунтарка, становится беспомощным инвалидом: кто-то из друзей подсыпал ей в напиток яд, убивший разум, но пощадивший тело. Кто из троих это сделал и зачем, узнать так и не удается, но жизнь уцелевших — замкнутой и суровой сироты Жуюй, ранимой Можань и яркого, бесшабашного Бояна, оказывается разрушена. Жуюй и Можань выбирают одинокую стерильную жизнь в Америке, брак Бояна, поначалу казавшийся счастливым, распадается, и лишь запоздавшая на двадцать лет смерть Шаоай приводит рычаги их судьбы — общей, хотя и разделенной на три параллельные линии, — в движение.
Впрочем, не стоит думать, будто «Добрее одиночества» американской китаянки Июнь Ли — детектив или какое-то его подобие. Читатель довольно быстро поймет, что случилось с Шаоай, но подлинные, глубинные причины произошедшего так и останутся от него скрыты. Июнь Ли не пытается искусственно удерживать внимание читателя, заманивая его перспективой разгадки, потому что главная ее задача — не ответить на бесхитростный вопрос «кто убил», но показать три разных стратегии врачевания — или, вернее, обезболивания — старых ран. Боян сводит свою благополучную жизнь к набору внешних функций: просторная квартира, красивая юная любовница, большая машина. Можань лелеет собственную изоляцию и с маниакальной аккуратностью обрывает все узы, хоть как-то связывающие ее с миром. Жуюй упорно и планомерно растит на сердце мощную защитную броню, не проницаемую ни изнутри, ни снаружи. Все они на свой манер несчастны, но с переменным успехом справляются с прошлым до тех пор, пока прошлое внезапно не отпускает их на свободу, давая шанс начать жизнь с чистого листа.
Роман-элегия, роман-медитация, «Добрее одиночества» интонационно напоминает «Любовное настроение» Вонга Кар Вая, а сюжетно — «Бесцветного Цкуру Тадзаки» Харуки Мураками (схожая история распавшейся юношеской дружбы, замешанная на одиночестве, лжи и утратах), но при этом обладает собственным ни на что не похожим очарованием — негромким, щемящим и камерным.
Заявка на жанр
О новых жанрах давно не было речи, и мы как-то не держим в сознании возможность их появления. Может, и напрасно. Вероятно, формы могут не только умирать, но и рождаться. Это очень непривычно, но сейчас все непривычно.
Еще недавно носителями подобных новаций были только художники. Те выводили свою деятельность в такое «место» (по отношению к обществу), где новые жанры возникали как бы сами собой, и в области актуального искусства появлялись иногда совершенно неожиданные объекты.
Таким объектом, на мой взгляд, была когда-то знаменитая «бульдозерная» выставка (1974), где произведением оказались не представленные там картины, а сама эта выставка — эта акция. Акция получилась более коллективной, чем предполагали устроители. Их равноправными партнерами стали те люди и организации, что разгоняли и громили выставку. Причем партнерами наиболее активными, хотя, как позже выяснилось, менее влиятельными.
Художники-организаторы только «запустили» это произведение, попутно включив и механизм вовлечения, а дальше оно стало строить себя само, как и полагается, с непредсказуемым конечным результатом. Для художников такой результат мог бы стать жизненной катастрофой, но и это соответствует заявленной стратегии актуального автора, готового переходить границы искусства, работать в новых и опасных зонах, испытывая на прочность социальные институты и общество в целом.
В тот раз, как известно, обошлось, время работало на художников, и даже можно догадаться почему. Для возможного объяснения напомню о некоторых событиях, происходивших в течение предыдущего, 1973 года. Суд над Петром Якиром и Виктором Красиным, в процессе (очень кстати это словечко) которого обнаружилось, что не все диссиденты сделаны из стали и мрамора. Приостановление выпуска «Хроники текущих событий» и, как следствие, пошедшее на убыль влияние диссидентских «салонов» — прежних центров консолидации новой социальной группы, «внутреннего социума». (Прежде «связанность всех со всеми» осуществлялась именно через организованное диссидентами единое информационное поле, а все остальные — областные, так сказать, — связи существовали как ответвления.) Казалось, что диссидентское движение полностью разгромлено.
Все это, повторяю, 1973 год. И уже в следующем состоялась «бульдозерная» выставка, после которой художники на какое-то время стали главными действующими лицами — героями на виду. Интересно, что тогда и диссиденты, и художники сходно заявляли себя как особое племя со своей этикой, не допускающей боязливую осторожность.
Время явно нуждалось в таких героях, как показывает хронологическая скорость смены ролей. Нарождающемуся «внутреннему обществу» были необходимы какие-то свои форумы — пусть и очень маленькие. Художники сделали один шаг вперед и сразу оказались в самом центре внимания.
Естественным продолжением «бульдозерной» (и, по сути, одним произведением) была состоявшаяся всего через две недели знаменитая выставка в Измайлово, где как-то и вовсе было не до картин. Не они там на самом деле и экспонировались. Все в основном смотрели друг на друга. Теплый солнечный день, безоблачное небо, большой зеленый луг, на котором расставлены мольберты, — и тысячи людей, впервые увидевших друг в друге не несколько кружков добровольных изгоев, а новое сообщество («мы-группу», как сказал бы социолог) — не такое маленькое и, как ни странно, довольно влиятельное. Признаюсь, что это была одна из лучших картин, какие я видел в жизни.
Потом писали, что там за четыре часа побывали несколько тысяч зрителей (из средств оповещения — только телефон). В следующем году прошли две выставки на ВДНХ, тоже собиравшие не меньше людей, чем легендарные стадионы шестидесятых.
А когда в 1976 году образовалась «секция живописи» при Горкоме графиков и стала устраивать свои выставки в подвале на Малой Грузинской, очередь энтузиастов опоясывала дом и заворачивала на улицу, хотя все понимали, что стоять на морозе придется не меньше двух часов. Выставленные там работы иногда, что называется, оставляли желать лучшего, но, похоже, дело было не только в работах.
Произошел какой-то заметный переход из одной области в другую. Художественный андеграунд обнаружил социальное измерение: проявился как возможность общественной самоорганизации.
Волей обстоятельств авторы взяли на себя еще одну задачу помимо собственно художественной: действовать на виду, давая обществу внятный урок свободы. И эта дополнительная задача поначалу виделась основной.
После шока конца восьмидесятых годов, который так аккуратно называют «вхождением в мировой контекст», актуальная зона изобразительного искусства очень изменилась и давно освободила то место, где была способна стать «форумом». Что может прийти на смену? Я, как всегда, смотрю в сторону поэзии: нет ли там такой возможности?
Не я первый заметил, что настоящее время как-то рифмуется с семидесятыми годами (прошлого века): это вновь «темные времена», и мир снова готов повернуться на оси. А когда воздух жизни так взвихрен, что ничего не различишь и в нескольких шагах, тут и зовут на помощь поэзию.
Но поэзия (как и свобода) не присутствует в каком-то определенном месте. Ты сам должен стать таким местом. «Новизну мира можно заметить, только став ее жертвой» (Г. Дашевский). Не стих, а автор должен сменить позицию. Возможно, она и станет новым жанром.
Эпигенетика и эпигонство
Минувший год стал своеобразным рубежом: количество данных по эпигенетическому наследованию превысило некоторую критическую массу. Если еще совсем недавно ученые, обсуждая результаты работ в этом направлении, старались избегать слов «наследование приобретенных признаков» (по крайней мере, в профессиональных изданиях), то сейчас эти слова стали чуть ли не знаменем нового направления. Победный клич «Ламарк все-таки был прав!» несется уже не только по блогам и телеканалам, но и по страницам научных журналов. Изучение того, как воздействия, перенесенные отцами и матерями, сказываются на детях, внуках и правнуках, буквально на глазах превратилось из сомнительной маргинальной темы в одно из самых модных и респектабельных направлений исследований.
Точки над Ц
Напомним вкратце, о чем идет речь. Как известно, наследственные признаки не только организма в целом, но и каждой его клетки определяются генами. При этом все клетки одного организма содержат одинаковый набор генов (если не считать соматических мутаций – случайных единичных ошибок, неизбежно возникающих при многократном копировании генетических текстов). Те огромные различия в строении и функциях разных клеток, которые мы наблюдаем, возникают из-за различий в интенсивности работы генов – то есть считывания с них белка. В каждом типе клеток с одних генов рабочие копии, используемые для синтеза белка, снимаются чаще, с других – реже, а с третьих не снимаются совсем. Некоторые гены работают только на определенном (иногда совсем коротком) этапе эмбрионального развития или только при наступлении особых условий – с которыми их конкретный обладатель может никогда в жизни не столкнуться.
Естественно, ученые попытались выяснить механизмы, регулирующие эту активность. Таких механизмов оказалось много, они сложным образом взаимодействуют друг с другом. В частности, еще в 1970-х годах было обнаружено, что активность генов сильно зависит от навешенных на них химических меток. Например, есть ферменты, которые могут присоединять к цитозину (одному из азотистых оснований, служащих буквами генетического кода) метильную группу. Чем больше цитозинов в данном гене метилировано, тем ниже его активность. Другие ферменты привешивают разные молекулярные добавки к гистонам (белкам, с которыми связана ДНК в ядре клетки) – эти модификации также влияют на интесивность работы тех генов, с которыми связана данная белковая молекула. Известны и иные механизмы такого рода. Все они отличаются тем, что никак не меняют «текст» гена и химическую природу считываемого с него белка, но заметно влияют на интенсивность этого считывания – а значит, и на концентрацию данного белка в клетке, ткани или организме в целом.
Откуда фермент знает, какой участок ДНК ему нужно метилировать или деметилировать – пока не очень понятно. Зато сравнительно недавно удалось выяснить, что некоторые из эпигенетических меток могут при удвоении ДНК воспроизводиться на дочерней цепочке. Далее, как и следовало ожидать, оказалось, что благодаря этому распределение меток, имевшее место в материнской клетке, может быть унаследовано дочерними. Наконец, была открыта и возможность передачи эпигенетических особенностей потомству, появляющемуся на свет в результате полового размножения. А поскольку, как уже говорилось, эпигенетические метки подвержены внешним воздействиям (и по идее служат средством обратной связи, благодаря которой режим работы гена может меняться в соответствии с внешними условиями), это вполне естественно рождало надежду найти нечто, возникшее у организма в ходе его жизни и затем переданное потомству. Проще говоря – найти наследование приобретенных признаков. Такая возможность привлекла многих исследователей – и сегодня научная пресса полна победных сообщений об открытии все новых и новых примеров этого явления.
Новость столетней давности
Как ни странно, в этом хоре ликующих голосов практически никто не вспоминает, что сам феномен подобного наследования известен в биологии вот уже второе столетие. Еще в 1913 году известный в ту пору немецкий биолог Виктор Йоллос обнаружил, что морфологические изменения, возникающие у инфузорий-туфелек при раздражении, не исчезают при делении клетки и сохраняются таким образом в течение нескольких поколений. Инфузории, конечно, объект специфический, и с точки зрения наших сегодняшних знаний об организации их генетического аппарата этот эффект кажется не столь уж удивительным. Однако вскоре аналогичные явления были обнаружены и у ряда многоклеточных организмов с нормальным половым размножением и «правильной» генетикой. Так, например, колорадские жуки, проходившие стадию кукоки при необычно высокой температуре, отличаются характерными изменениями в окраске. Оказалось, что эти изменения сохраняются (постепенно слабея) у нескольких поколений их потомков, у которых фаза куколки приходится на обычные температуры.
Все это очень сильно напоминало обычные индивидуальные модификации, «определенную изменчивость» биологии XIX века: лебеда, выросшая в трещине кирпичной стены, получается меньше ростом и суше своих собратьев, растущих в поле; у рачка Artemia salina форма хвостового членика и число щетинок на нем зависят от солености воды, в которой развивалась личинка и т. д. Однако про обычные модификации к тому времени уже было известно, что они не наследуются: из семян малорослой «настенной» лебеды на богатой почве вырастает обычная лебеда, из яиц «солоноводной» формы артемии в опресненной воде вырастает «пресноводная» форма. Новый же тип модификаций отличался способностью передаваться (хотя и неустойчиво, с затуханием) нескольким следующим поколениям. С легкой руки Йоллоса такие изменения получили название длительных модификаций (Dauermodifikationen).
Длительным модификациям не повезло: их открытие пришлось на время бурного расцвета классической генетики, быстро превращавшейся в царицу биологии. В ту биологическую картину мира, которая формировалась на основе идей генетики, длительные модификации (и вообще негенетическое наследование) вписывались с большим скрипом. К тому же эффект был довольно редким и плохо воспроизводился. Но главное – у тогдашней биологии практически не было методов, позволяющих исследовать механизмы этого явления. Феномен исправно упоминался в солидных учебниках и справочной литературе (как правило, мелким шрифтом или в примечаниях), но почти не исследовался и вообще находился где-то на дальней периферии поля зрения науки. А когда уже в конце ХХ века были открыты эпигенетические механизмы регуляции активности генов и возможность их наследования, о феномене длительных модификаций уже мало кто помнил: современные молодые ученые редко интересуются публикациями вековой давности, тем более такими, которые в последние десятилетия почти никто не цитировал.
Впрочем, вопрос о времени и авторстве открытия эпигенетического наследования и даже об эквивалентности йоллосовских длительных модификаций изучаемым ныне эпигенетическим феноменам – это, в конце концов, лишь вопрос истории науки. Если не придираться к деталям, то все примерно так и должно быть: сто лет назад открыли интересный феномен, никто его с тех пор не отрицал, но не хватало знаний для его объяснения, а главное – методов для изучения. Теперь такие знания и методы появились – и изучение этого класса явлений идет полным ходом. А уж что за сто лет подзабыли имя опередившего свою эпоху первооткрывателя – печально, конечно, но понятно и простительно.
Злоприобретенные признаки
Куда больше вопросов и недоумения вызывает не историческая, а содержательная сторона дела. Если непредвзято взглянуть, с одной стороны, на фактические сведения об эпигенетическом наследовании, а с другой – на их теоретическую трактовку энтузиастами (и особенно на их предполагаемую эволюционную роль), испытываешь глубокое удивление и даже некоторую неловкость, как при наблюдении попыток запрячь в карету морского конька.
Мы привыкли думать, что любые модификации (как и вообще любые реакции организма на внешние изменения) в той или иной степени адаптивны. Все концепции, приписывающие модификациям какое бы то ни было эволюционное значение, основаны именно на этом и подразумевают такое свойство модификаций как само собой разумеющееся. Адаптивными «по умолчанию» считаются и эпигенетические изменения, в том числе и наследуемые.
Между тем, если посмотреть на конкретные фактические результаты, служащие основой для рассуждений о «недооцененной» эволюционной роли эпигенетики, то нельзя не заметить, что их адаптивность в лучшем случае неочевидна и может быть им приписана только посредством специальных дополнительных предположений. Например, показано, что при содержании крыс в стрессовых условиях уровень кортизона (одного из гормонов, опосредующих стресс-реакцию) у них будет стабильно повышенным, и это повышение можно отследить вплоть до четвертого поколения – даже если все поколения, кроме первого, будут жить в комфорте. Очень интересный эффект – но можно ли считать его адаптивным? Стресс-синдром адаптивен именно как оперативная и краткосрочная реакция организма на неожиданные (и как правило неприятные) изменения внешних условий, хронический же стресс действует разрушительно, провоцируя развитие ряда характерных патологий. Можно, конечно, придумать теоретическую схемку, в которой «априорно» повышенный уровень стрессового гормна оказывается полезным для организма – но это нужно именно специально придумывать, а потом еще отдельно доказывать, что такая схема действительно реализуется в данном случае.
Часто же изменения, передаваемые эпигенетическим путем, выглядят явно контрадаптивными, понижающими жизнеспособность унаследовавших их потомков. Возьмем наугад несколько работ, где исследуются эффекты эпигенетического наследования (доказанные или предполагаемые) – и что мы видим? Стресс, пережитый отцом, повышает вероятность развития неврозов и депрессии у его детей. Нехватка фолиевой кислоты (витамина В9) в рационе самцов мышей повышает риск пороков развития у их потомства. Воздействие никотина на предков снижает у потомков (вплоть до правнуков) легочную функцию, увеличивает риск астмы и повышает (!) концентрацию рецепторов к никотину – т. е. в случае, если потомки тоже столкнутся с никотином, им для достижения того же эффекта хватит меньших доз. Если самец крысы страдает ожирением, то у его дочерей увеличивается риск развития сахарного диабета. И где тут, спрашивается, адаптивность? Это больше похоже на передачу последующим поколениям хронической дисфункции – своего рода «грехов отцов», которые падают на их потомков, если не до седьмого, как требует Писание, то по крайней мере до второго-третьего колена.
Как мог возникнуть и эволюционно закрепиться столь неудобный для своих обладателей механизм наследования, каков его биологический смысл – вопрос отдельный и интересный. Он требует и обсуждения, и специальных исследований – но ими-то как раз никто не занимается. Любые попытки теоретического истолкования обнаруженных феноменов неизменно сворачивают в наезженную колею «наследования приобретенных признаков», «ламарковской эволюции» и т. п. интеллектуальных шаблонов полутора-двухвековой давности. От подобных построений порой веет некоторой шизофреничностью: в гипотезах и моделях обсуждается накопление адаптивных изменений, а иллюстрациями и примерами служат явные дезадаптации. И самое поразительное – что этого кричащего противоречия словно бы никто не замечает! С другой стороны – тем надежнее сами факты, приводимые и обсуждаемые в таких работах. Тут уж никак не скажешь, что ученые-де видят то, что хотят увидеть: в том-то и дело, что хотят увидеть адаптивность и эволюционный механизм, а реально видят трансгенерационные травмы и дисфункции!
Продленная норма реакции
Возможная роль эпигенетического наследования в эволюционных процессах, вызывает большие сомнения и с чисто теоретической точки зрения. Напомним: все известные на сегодня эпигенетические механизмы – это регуляторы интенсивности работы того или иного гена. Под действием внешних факторов эти регуляторы принимают то или иное положение, и оно в той или иной мере наследуется. При продолжении и усилении действия тех или иных факторов положение регуляторов теоретически может с каждым поколением все больше сдвигаться в определенную сторону – но только до некоторого предела. Ведь как известно всякому, кто имел опыт пользования приемником или электромясорубкой, у любого регулятора мощности есть лишь ограниченная шкала с двумя крайними положениями – «выкл» и «макс». И все, что может делать регулятор, – это менять мощность в промежутке между этими значениями. То же самое относится и к молекулярным регуляторам.
Для индивидуального развития и повседневного функционирования организма это не так уж мало. Достаточно вспомнить, что ход едва ли не всех формообразовательных процессов в эмбриогенезе определяется не просто наличием или отсутствием того или иного сигнального вещества (морфогена), но скорее его концентрацией, часто – соотношением концентраций разных морфогенов в каждой конкретной точке зародыша. Да и в последующей жизни едва ли не все существенные характеристики индивидуума – от физических возможностей до распределения активности в течение суток, от времени взросления до склада характера – зависят именно от концентрации определенных молекул в определенных структурах, то есть от интенсивности работы соответствующих генов.
Но совершенно непонятно, как то или иное положение регуляторов может влиять на эволюционные процессы. Во-первых, любой признак, сформировавшийся в результате его, по определению лежит в пределах нормы реакции данного генотипа – т. е. с эволюционной точки зрения этот признак уже существует, и то или иное положение регуляторов только обеспечивает его проявление в фенотипе (или, наоборот, препятствует таковому). То, что механизмы проявления признака в ряде случаевимеют большое время срабатывания, захватывающее срок жизни нескольких поколений, само по себе очень интересно, но не отменяет того очевижного факта, что эпигенетические изменения не могут создать никакого эволюционно нового признака. Во-вторых, когда выше мы говорили о важной роли именно концентраций сигнальных веществ (а значит, интенсивности работы соответствующих генов), мы не зря каждый раз уточняли – речь идет о концентрациях этих веществ в данный момент в данной точке тела. Но пространственно-временное распределение активности того или иного гена как раз и не может быть предметом эпигенетического наследования: единственная клеточка, с которой начинается развитие всякого сложного организма, может унаследовать от родителей только какое-то одно конкретное положение регуляторов. Потом, у разных клеток-потомков и на разных этапах жизни оно неизбежно будет меняться – независимо от того, каким оно было исходно. Да, конечно, вполне вероятно, что исходный, допустим, уровень метилирования того или иного гена в оплодотворенной яйцеклетке как-то влияет на уровень его метилирования в тех тканях, где он работает (и именно эти влияния и «ловят» современные работы по эпигенетическому наследованию). Но никакой сложной картины таким образом не передашь и не унаследуешь: цвет бумаги или ткани, на которой выполнен рисунок, может в той или иной мере влиять на его колорит, но не на само содержание. К тому же мы знаем, что и эмбриологические, и физиологические механизмы обычно нацелены на достижение определенного результата – независимо от того, с какого исходного уровня им приходится начинать работу. Именно поэтому эффекты эпигенетического наследования обычно удается выявлять только статистически, на больших выборках – как несколько повышенную вероятность возникновения чего-то, что может возникнуть и без них.
Так что все рассуждения об эволюционной роли эпигенетического наследования – это, скорее всего, рассуждения о том, чего нет.
Ветхие мехи теории и вино фактов
Сказанное, разумеется, не означает, что сам этот феномен не важен или неинтересен. Выше уже говорилось об интригующей загадке дезадаптивности большинства известных примеров такого наследования: как могло возникнуть подобное явление, а возникнув – устойчиво существовать? Или то, что мы принимаем за целостный механизм, на самом деле всего лишь побочный эффект, второстепенное проявление какого-то более сложного и масштабного феномена? Не менее странными выглядят и другие свойства этих явлений. Например, почему передаваемые таким образом особенности очень часто (хотя в разных случаях по-разному) оказываются чувствительными к полу родителя и потомка: для некоторых удается зафиксировать только передачу от отцов к сыновьям, для других – от матерей к дочерям, для третьих – от отцов к дочерям и т. д.?
Но, пожалуй, самое важное – это то, что изучение эпигенетических механизмов открывает возможность продвинуться в понимании принципов управления активностью определенных генов в определенных клетках и тканях. Каким образом, через какие молекулярные события те или иные сигналы из внешней среды изменяют расстановку эпигенетических меток на определенных участках генома? Как это происходит в половых клетках, где «нужные» гены заведомо не работают? Как влияет уже имеющаяся расстановка меток на их изменение под действием внешних сигналов?
К сожалению, исследования такого рода почти не привлекают ученых, зачарованных призраком «эпигенетического ламаркизма». Теоретики строят модели, как могла бы идти эволюция на основе адаптивных изменений, обеспеченных эпигенетическими механизмами, экспериментаторы с энтузиазмом отыскивают все новые и новые примеры эпигенетического наследования. На совершенно новые (и в общем-то непростые для нормального человеческого воображения) явления смотрят сквозь призму давно обветшавших теорий.
Остается только надеяться, что хотя бы первые шаги к адекватному теоретическому осмыслению эпигенетических феноменов будут сделаны раньше, чем массовый энтузиазм сменится столь же массовым разочарованием и эпигенетикой просто перестанут заниматься. Такие сюжеты в истории биологии, увы, известны.
Русский человек на интервью
В детстве мне ужасно нравилось нарядное слово «интервью».
Мечтая, конечно же, о мировой славе и насмотревшись какого-то кино про «заграничную жизнь», я с замиранием сердца воображал самого себя сидящим в глубоком кожаном кресле, желательно с курительной трубкой в одной руке и изящными очками в другой. Напротив меня с почтительным видом располагался приятного вида молодой человек и авторучкой с непременно золотым пером в красивом аккуратном блокнотике быстро, стараясь угнаться за моей стремительной мыслью и ничего не упустить, записывал мои мудрые изречения, понятливо кивая головой с безукоризненным пробором.
Это происходило, допустим, в моем рабочем кабинете. На письменном столе располагались пишущая машинка, элегантный стаканчик с остро заточенными карандашами и — зачем-то — череп какого-нибудь бедного Йорика.
Могло, конечно, все это происходить и где-нибудь подальше. Например, на моей собственной яхте. Но по пути к этой яхте мое воображение заметно притормаживало и неизбежно тонуло в прибрежном тумане.
Но главным во всех этих воображаемых мизансценах все равно было само это волшебное слово «интервью».
С тех пор прошло, скажем аккуратно, некоторое время, а ни мягким кожаным креслом, ни черепом, ни бюстом Паллады я так до сих пор и не разжился. Стоит ли в этом контексте упоминать еще и о яхте?
А вот интервью я время от времени даю. И даже довольно часто. По крайней мере, настолько часто, что некоторый навык в этом деле я, как мне кажется, приобрел.
Были всякие странные и даже курьезные случаи. Я, например, не могу забыть, как однажды в середине 90-х годов мне позвонила барышня, представилась, сказала, что она из такой-то газеты (нет давно уже этой газеты), что она еще пока студентка, а в этой газете проходит стажировку и что ей поручено взять у меня интервью.
Ну ладно, поручено так поручено. Я назначил ей время, и к назначенному времени она приехала. Совсем юное создание с диктофоном. Почти сразу же стало понятно, что во всей этой комбинации действующих лиц единственным значимым субъектом нашего интервью был именно диктофон, который, понятное дело, без нашего участия при всем своем желании и при всей своей квалификации не смог справиться с поставленной задачей.
Девушка села напротив, включила этот самый диктофон и начала так: «Мне сказали, что вы что-то пишете. Расскажите, пожалуйста, что вы пишете. В каком жанре? О чем?»
Почему-то именно это «о чем» окончательно вывело меня из и без того ненадежного равновесия.
Все, кто меня немножко знает, знают о том, что я человек в принципе невздорный и неамбициозный. Но я ее все-таки погнал, сказав, что так нельзя, и что к интервью надо хотя бы чуть-чуть готовиться, и странно, что ей до этого момента никто этого не объяснил.
Она ушла не столько обиженная, сколько озадаченная. Как это так: уважаемая газета осчастливила меня интервью, а я не согласился его давать. Ничего себе!
Такой случай был всего один. Но на разные глупости я, конечно, время от времени натыкался. Натыкаюсь иногда и теперь.
Глупые и некомпетентные попадались, да. И ничего удивительного — в журналистике соотношение глупых и умных людей примерно такое же, как и в прочих профессиональных сообществах.
Глупые попадались, а вот подлые, пожалуй, нет. Могу объяснить это не столько своим знанием и пониманием человеческой природы, сколько самым обыкновенным везением.
Хотя и не только. Медийная жизнь последних лет приучает человека к неприятной, но гигиенически необходимой бдительности. Поэтому, лишь только услышав название той или иной газеты, радио и телеканала, я отвечаю коротко и определенно, вежливо, но твердо: «Спасибо, нет!»
Некоторые, изображая простодушие, интересуются: «А почему?» Но чаще всего не спрашивают, а говорят лишь: «Ну ладно. Жалко, конечно». А совсем недавно позвонившая мне на предмет возможного интервью дама, услышав мое «нет», вздохнула и, понизив голос, сказала: «Как я вас понимаю».
Тягостная, неприятная история с недавним интервью Светланы Алексиевич, история, которую в последние несколько дней довольно бурно обсуждают в социальных сетях, не кажется мне такой уж прямо роковой. Поучительной — да. Но не катастрофической.
Журналистскую профессию — за редчайшим, а потому особенно ценным исключением — катастрофа уже постигла. А вот репутации Светланы Алексиевич она повредить не может.
Да, интервью — жанр особый. Это не тот тип интеллектуального противоборства, где глупый или морально ущербный собеседник служит необычайно выгодным фоном для умного и порядочного. Тут по-другому. Потому что интервью — это вообще не противоборство. А если оно — противоборство, то это не интервью, а допрос.
Это допрос, где тебя не спросят: «А что вы думаете о…» или «Что, по-вашему, надо делать, чтобы…» А спросят там тебя: «За что вы так ненавидите Россию?» или «Почему вы так упорно игнорируете мнение народа?»
Это допрос, где ты либо должен глупо оправдываться, говоря: «А с чего вы взяли, что я не люблю Россию и что я игнорирую мнение народа. Да и хотелось бы заодно знать, какие значения вы вкладываете в такие слова, как „Россия“ и „народ“?» Либо ты должен вовсе уклоняться от общения, построенного на такой тухлой логике.
Будучи втянутым в такого рода разговор, нормальный человек, если он не опытный и бдительный полемист, уверенно чувствующий себя на чужом поле, а всего лишь литератор, привыкший к ясным и семантически оправданным формулировкам, если он всего лишь скромный нобелевский лауреат, чья поэтика и литературная репутация плотно замешаны на таких непочтенных в наши дни категориях, как совесть и сочувствие, такой нормальный человек в таких обстоятельствах чувствует себя облапошенным идиотом.
Неприятное чувство, согласен. Но, повторяю, репутации Светланы Алексиевич эта история не повредит. Слишком уж несопоставимы масштабы ее личности и коллективного организма всей пропагандистской машинерии.
В излишнюю и саморазрушительную подозрительность впадать, конечно, не следует. Тем более тем, чья нравственная и общественная позиция ясна и прозрачна.
Но помнить кое о чем все же надо. Например, о том, что, обитая в плохо освещенном пространстве, гигиенические нормы в котором ниже всякого допустимого уровня, необычайно легко и в любой момент можно вступить в дерьмо. Под ноги все же смотреть надо, это не помешает.
Надо время от времени смотреть под ноги. И не только писателям и лауреатам. Всем. От интервью никто не застрахован.
Дворцы достижений
Совершенно очевидно, что трагедия в Кемерово вызвала реакцию куда более бурную, чем другие катастрофы, неизбежно случающиеся в наше время: падения самолетов, крушения поездов и пароходов, обрушения зданий. Только в 2016 году авиакатастроф было в России две, и обе – с большим количеством жертв: в марте Ростове-на-Дону разбился самолет, летевший из Дубая (погибли 62 человека), а в декабре — борт, летевший в Сирию, — 92 погибших. В том же году утонули дети на Сямозере в Карелии, а в Ханты-Мансийском автономном округе разбился автобус, в котором находилась детская команда по акробатике. Совсем недавно, в феврале, под Москвой разбился самолет «Саратовских авиалиний», погибших — 71 человек. Каждый раз, конечно, известие о массовой гибели сограждан вызывает сильные негативные эмоции, страх, гнев, сожаление, сочувствие жертвам и их близким. Но такого буквально всенародного взрыва горя и негодования, как после пожара в «Зимней вишне», я не помню.
Конечно, как это ни ужасно звучит, полет и даже поездка на автомобиле как бы подразумевает возможность риска, в то время как мирное пребывание в Торгово-развлекательном центре никакой угрозы не таит, поэтому несчастный случай в кинотеатре осознается острее, чем авария. Но всеобщность и высокий уровень реагирования (которые даже навели высших чиновников на мысль о вмешательстве извне, со стороны западных политических противников) явно показывают на наличие в этом выражении народного гнева многих новых составляющих.
Я предполагаю, что одним из факторов стало место катастрофы — торгово-развлекательный центр (ТРЦ). И вот почему.
Когда в девяностые годы страна выбирала новый политический строй, у большинства граждан не было сознания высокой степени социальной или политической уязвимости, что бы ни говорили об этом активисты. Рядовой советский человек не чувствовал ущемления от советской власти — свобода совести или свобода выбора интересовала единицы, ведь диссиденты имели очень незначительную поддержку не только потому, что о них мало знали, но и потому, что политический протест если и щекотал нервы, то не был насущной осознанной необходимостью для обычного советского гражданина. Однако массовый потребитель в СССР точно был унижен. Осознание того, что в соседней Финляндии или западной Германии в продаже свободно лежат джинсы, пиво в банках, сигареты, а в своем Иваново или Кемерово не то что колбасы нет, но и за молоком очереди, а про народный автомобиль «Фольксваген» даже народным артистам мечтать невозможно — это действительно травмировало. И общенародную поддержку перестройка в основном получила именно из-за этого комплекса потребителя, народ всерьез надеялся, что изменение строя автоматически наполнит полки магазинов вожделенным товаром.
Новая реальность эти чаяния исполнила: пиво и сигареты появились сначала в ларьках, потом на вещевых рынках, и наконец, в начале нулевых — в торговых центрах, святилищах потребительского рая, островках воплощенной мечты товары посыпались как из рога изобилия.
Судите сами — во всем мире есть мегамоллы, строить их начали гораздо раньше, чем в России, но из десяти крупнейших ТРЦ Европы уже в 2014 году пять российских, причем на первом и на втором месте. С тех пор количество моллов только увеличилось, кризис, санкции и общее падение покупательной способности лишь слегка замедлили рост их числа. В 2016 году, который считается минимальным по объему строительства новых торговых площадей, в стране открылось 28 новых ТРЦ.
Россия является лидером в Европе по этому показателю. Можно сказать, что поход в торговый центр для россиян стал самым любимым видом досуга. По данным ВЦИОМ, регулярно посещает ТРЦ две трети взрослого населения страны, а половина сограждан делает это не реже одного раза в месяц. Вот где она — настоящая народная скрепа.
И не ради покупок идут жители городов в ТРЦ, неслучайно собственники просто вынуждены (ради посещаемости и узнаваемости бренда, иной раз себе в убыток, чтобы выдержать в конкурентной борьбе), помимо магазинов, содержать рестораны, фуд-корты, кинотеатры, боулинги, детские игровые парки и площадки. В Красноярске уже и часовню открыли — чтобы посетитель мог удовлетворить все потребности.
Торговые центры демократичны: даже если у человека нет денег, его никто не выгонит, не посмотрит косо, сколько бы он ни шатался по ярко освещенным проспектам ТРЦ, ни заглядывал в витрины. Любой чисто одетый гражданин может примерить одежду, попробовать запах духов, посидеть у фонтана или аквариума, посмотреть развлекательную программу.
Кажется, что горожане, сделавшие шоппинг и развлечения важной частью своей жизни, обменяли свои скучные гражданские права на столь приятную и необременительную релаксацию под сенью струй, иллюминаций, музыкальных концертов, где так легко забыть о том, что снаружи холодно, темно, неуютно, проблемно.
Моллы демократичны, в них есть товары на все кошельки и вкусы, к ним ездят бесплатные автобусы, там всегда можно найти продукты, дешевле, чем в обычных магазинах. При этом в них все нарядно, сверкающе, богато и изобильно, они выглядят так утешающе — потребитель чувствует, что ТРЦ — едва ли не единственное место, где его уважают, где он чувствует себя желанным гостем.
К тому же в России нет других общественных пространств: храмы тесны и традиционно неприветливы, там негде сесть, там не принято устраивать концерты или собрания. В барах у нас играет громкая музыка, не расслабишься. Площади большую часть года некомфортны. Зато ТРЦ охотно предоставляет чувство причастности к общему народному телу, тут пространство открыто, освещено, доступно, это место для гуляния, фланирования, расслабления, тут даже приятно почувствовать себя частью толпы, потолкавшись среди зрителей очередного шоу или конкурса.
Поэтому вполне вероятно, что россияне могли воспринять гигантский пожар в ТРЦ и как покушение на свой покой и стабильность и готовы винить не только владельцев или персонал, но и власть, нарушившую негласный договор: мы вам отдаем все права, но вы нам обеспечиваете безопасность и удовольствие.
Выяснилось, что и тут невозможно бездумно рассчитывать на отеческую защиту.
Иллюзия благополучия сгорела: оказалось, что за блестящим фасадом могут скрываться вовсе не изобилие и стабильность, а дешевый пластик, ненадежная электропроводка, отсутствие удобных проходов и лестниц. Дворцы потребления показались ловушками, их доброжелательная открытость обернулась расчетом и безнаказанностью.
Посетители ТРЦ чувствуют себя обманутыми. Это же было едва ли одно из главных достижений современной России — комфортное пространство для потребления, физическое удовольствие от процесса покупок или от самой возможности их совершить, убаюкивающее и отвлекающее от реальных проблем образования, здравоохранения, социального обеспечения.
Сегодня власть как никогда ищет доверия, но именно по доверию и был нанесен ощутимый удар трагедией в Кемерово.
Выставка достижений военного хозяйства
Вот уже несколько последних лет я жду 9 мая, главный, а может быть, единственный настоящий праздник нашей страны, с некоторым страхом. Ну, что они учудят на этот раз, задаю я себе грустный вопрос. Мы как-то привыкли жить в атмосфере безудержной пошлости, которая изливается с телеэкранов. На эту пошлость в какой-то момент перестаешь обращать внимание. Но День Победы, как некий нравственный камертон, заставляет оглянуться вокруг и заново услышать всю фальшь государственной пропаганды.
Казалось бы, мы уже все видели: детсадовцев, марширующих в военных гимнастерках, детские коляски в виде танков, «георгиевские ленточки», которые привязывают чуть ли не на собачьи ошейники, разухабистые надписи на BMW и «мерседесах», которые выражают отнюдь не патриотизм, а комплекс неполноценности.
Мы видели, как акция «Бессмертный полк», которая первоначально была искренней попыткой установить связь каждого отдельного человека с Победой через семейную память, превратилась в очередное бюрократическое мероприятие. Вместо самодельных плакатов с фотографиями родных людей — фабричным методом изготовленные рамочки с заранее утвержденными изображениями. И ответственные за «явку» чиновники, рассылающие разнарядки по ЖЭКам и школам со строгими предписаниями относительно числа участников и их формы одежды.
Праздник всеобщего счастья от того, что после четырех лет невиданных страданий и потерь наступил мир, на наших глазах стал милитаристским торжеством. Эдакой выставкой достижений военного хозяйства. В этом году парад будет особенно богат на новинки. Министерство обороны подхватило эстафету президентского Послания, которое, как помним, представляло собой презентацию новейших ядерных вооружений. Теперь будут продемонстрированы новинки сил общего назначения: боевые квадроциклы и снегоходы, легкие пикапы с пулеметами и тяжелые машины огневой поддержки. А еще будут показаны боевые роботы и беспилотники. Понятно, что российским начальникам приятно позировать на фоне этой грозной военной техники и молодцеватых военных. Не с ветеранами же фотографироваться! К тому же и осталось их немного — выдадим каждому по 10 тысяч и будем считать, что отдали долг памяти. Всего-то миллиард целковых. Меньше, чем создание президентского лимузина.
Однако на сей раз 9 мая, к несчастью, совпало с куда более важным праздником отечественной бюрократии, очередным, четвертым уже, воцарением Путина В.В. Поэтом День Победы стали отмечать на отечественном телевидении раньше обычного — недели за полторы. При этом анонсы предстоящего парада шли встык с рекламой путинской инаугурации. Замысел президентских пиарщиков был примитивно прост. В голове у «дорогих россиян» День Победы должен был совместиться с днем победы лично В.В. Путина. Его праздник обречен был стать всеобщим.
Однако на сей раз тонкие замыслы экспертов по ментальной обработке подведомственного населения пришли в противоречие с интересами специалистов резиновых дубинок. Так получилось, что не все граждане испытывают патриотический восторг в связи с четвертым самоназначением главного начальника. Эти люди решили выйти на акцию протеста, чтобы как минимум напомнить, что Путин — пока что не царь. Силовые начальники, желавшие продемонстрировать Кремлю свою эффективность, натравили на протестующих шантрапу с нагайками. Смысл понятен: напугать, поднять уровень насилия против недовольных даже выше того, что позволяет себе полиция. И вот накануне Дня Победы, праздника, который должен объединить всех жителей страны, вне зависимости от политических взглядов, власть послала одних граждан избивать других. Трудно представить, что люди, сошедшиеся в прямом силовом противостоянии, через несколько дней будут вместе праздновать 9 мая.
В этом году власть перешла важную красную линию. Если раньше она приватизировала День Победы, пыталась использовать его в узкокорыстных, утилитарных милитаристских целях: самое время сплотиться вокруг лидера, если страна снова находится во враждебном окружении. Теперь Путин отказался от попыток представить себя президентом всех россиян. Он продемонстрировал, что готов возглавить одних граждан против других. Нынешний День Победы страна встречает разъединенной ее начальниками.
История одного дома
Автор: Степан Беззубов, на момент написания работы студент 1-го курса Ивановского музыкального училища, д. Кирикино, Ивановская область. Научный руководитель Сергей Сергеевич Беззубов. Победитель конкурса мини-исследований 19 Всероссийского конкурса «Человек в истории. Россия – ХХ век», Международный Мемориал
Из сводки МЧС за 28 ноября 2007 года: «В д. Старая Гольчиха Вичугского района около 10:00 загорелся мебельный цех. Огнём уничтожено 400 кв. м строения. На пожаре пострадали вое мужчин – 48 и 37 лет. У них – ожоги головы, рук, лица и тела. После оказания медицинской помощи от госпитализации отказались. Причина пожара устанавливается».
Именно это событие побудило нас к созданию этой работы.
Все каменные здания деревни были построены Старогольчихинскими купцами Миндовскими под текстильные фабрики или подсобные помещения для фабричных нужд. Как известно, большую роль в развитии текстильного края сыграла Отечественная война 1812 года. В Московском пожаре сгорели все текстильные мануфактуры, работавшие во второй столице. Это способствовало тому, что освободившуюся на рынке нишу стали заполнять предприниматели двух соседних губерний – Владимирской и Костромской. После войны 1812 года одна за другой возникают текстильные мануфактуры в Вичугском крае.
Традиционно считается, что первой мануфактурой, которая открылась в Вичугском районе, была фабрика Ивана Коновалова в селе Бонячки. Она заработала в 1812 году. Однако в труде Крживоблодского, мы находим, что первая мануфактура по производству бумажных тканей в Костромской губернии была открыта в деревне Старая Гольчиха – Иваном Ивановичем Миндовским тоже в 1812 году, а фабрика Коноваловых стала работать лишь в 1816 году.
Владимир Пирогов в своих очерках, пишет, что бумаго-ткацкая и отделочная фабрика Ивана Миндовского в деревне была открыта чуть позднее в 1817 году.
В справочнике В. Пирогова указано семь фабричных помещений в д. Старая Гольчиха:
4 здания – два каменных двухэтажные и два «полукаменных» – одноэтажные; одно крыто железом и три деревом. Эти здания были построены для бумаго-ткацкой и красильно-отделочной фабрик Галактиона Ивановича Миндовского, затем они перешли к «Товариществу Волжской мануфактуры бумажных и льняных изделий П. Миндовского и И. Бакакина».
3 каменных 2-х этажных здания, крытых железом. В этих зданиях находилась бумаго-сновальная и отделочная фабрика. Предприятие основано в 1825 году Ефимом Ивановичем Миндовским, после смерти, которого в 1874 году фабрикой стал владеть его зять – Геннадий Александрович Кокорев.
Итак, судя по источникам, в деревне было всего 7 фабричных каменных и «полукаменных» зданий. Сегодня невозможно установить, что находилось в каждом из них. В каком цеху ткали ткань, а в каком ее отделывали и красили.
Так как документов и фотографий не сохранилось, то трудно представить себе как вообще выглядела фабричная структура деревни. Однако большая часть каменных зданий деревни до середины 80-х годов ХХ века сохранились. Но они уже использовались по другому назначению.
1. Здание Старогольчихинской школы построено в 1862 году .
2. Жилой дом, мебельный цех. Разобран и сильно руинирован.
3. Каменное двухэтажное здание, в котором находился Гольчихинский
сельский совет. Дом разрушен в середине 80-х годов ХХ века.
4. Одноэтажное здание, бывший магазин Вичугского райпо. Разрушено в
2009 году.
5. Каменное одноэтажное здание Старогольчихинского клуба. Разобрано в 2006 году
6-7. Два двухэтажных фабричных здания находились в поле – между Старой Гольчихой и д. Погорелка. Разобраны в 1927 году.
Вернемся к истории дома, о котором мы говорили ранее. До 1917 года в здании, по воспоминаниям старожилов деревни, находилась товарная контора, склад, кабинеты мастеров, счетоводов и приказчиков и даже фабричная библиотека.
По размерам оно было самое большое. Около 45 метров в длину, 22-23 метра в ширину и почти 8 метров в высоту. Форма в виде буквы П.
После октябрьской революции 1917 года фабрика П. Миндовского была законсервирована, а фабрика Г.А Кокорева, которой после его смерти стал владеть сын Иван, проработала лишь один год, впоследствии тоже была законсервирована. С закрытием фабрик в революционном порыве местные жители стали растаскивать фабричное имущество. Была уничтожена большая библиотека Г.А. Кокорева, сожжена оранжерея Миндовских, разобраны на дрова беседки и веранды. В 1927 году по Постановлению Вичугского райисполкома и рекомендации Старогольчихинского комитета бедноты помещения фабрик были разобраны. Из кирпича фабрик в городе Вичуга бала построена школа №17 и здания «Нарпита» – фабрики кухни. Так закончилась славная история фабрик деревни Старая Гольчиха. Но дом, о котором идет речь после 1917 года еще не разобрали.
Для того что бы восстановить историю здания после 1917 года, обратимся к воспоминаниям жителей д. Старая Гольчиха.
Александра Михайловна Сударкина, вспоминала, как в период 20-30-х годов XX века здание пустовало и постепенно стало разрушаться. Местные жители разбирали полы, перегородки и даже часть второго этажа была разобрана, растащена на кирпичи. И действительно, на старых школьных фотографиях видно, что здание находится в запущенном состоянии. Заколочены или выбиты окна, отсутствуют двери. Однако в конце 30-х годов XX века власти обратили внимание на пустующий большой дом, и он был передан Вичугской фабрике «Красный Профинтерн». Начинается восстановление.
Николай Александрович Киселев, предполагает, что здание было восстановлено для нужд госпиталя:
«Так как здание большое, а раненых в годы Великой Отечественной войны к нам в Вичугу поступало много, здание очень быстро восстановили. Планировка была такова: один коридор и слева и справа расположены комнаты. Всего на двух этажах комнат было около 30. Приблизительная площадь комнат от 18 до 24-25 квадратных метров. Но война закончилась, и нужда в госпитале отпала. С конца 40-х годов дом начинают заселять рабочими Ткацкого производства №3 фабрики «Красный Профинтерн».
Количество жильцов в доме было чуть более 120 человек. Семей проживало около 25. Кроме семей, в доме были 3 комнаты общежития. В одной жили молодые мужчины – работники фабрики, слесари и помощники мастера, в двух других – девушки-ткачихи. Отношения между жильцами Николай Алексеевич Киселев характеризует как спокойные и дружелюбные. Ссоры были, в основном, на кухне, т. к. кухонь было всего три, что явно было недостаточно для такого количества людей. Иногда случались кражи белья с веревок и овощей из подвалов, но крупных происшествий не было. Почему-то сразу за домом закрепились название «Домком». Жители дома объясняют это название тем, что в одной из комнат был домовой комитет. А затем и весь дом стали называть так.
Вадим Сергеевич Маслов вспоминает: «В середине 70-х годов ХХ века для нужд школы и «Домкома», была построена котельная с двумя угольными котлами. В 1981 пробурена артезианская скважина».
С начала 70-х годов XX века фабрика «Красный Профинтерн» начинает активное строительство благоустроенного жилья для своих рабочих. С 1971 году жильцов дома начинают переселять в новое жилье в г. Вичугу и пос. Красный Октябрь. Так в 1972 году в поселок Красный Октябрь было переселено сразу 8 семей. Освободившиеся комнаты занимаются жильцами дома. Процесс переселения из Домкома продолжался до 1990 года. В 1990 году было закончено строительство 6 одноэтажных 2 квартирных домов в пос. Красный Октябрь и последние жители – 12 семей из Домкома выезжают. Но до сегодняшнего дня бывшие жильцы с теплотой вспоминают годы, прожитые в Домкоме. Вот что вспоминала Ольга Герасимова, которая проживала в доме с середины 80-х годов до начала 90-х XX века: «Жить в доме было весело. Мы часто собирались всем домом отмечать дни рождения, Новый Год, годовой праздник. Помогали друг другу. Дружили семьями, дружили наши дети. У нас была замечательная детская площадка, рядом небольшой пруд, где купались взрослые и дети».
В 1990 году дом опустел. В начале его охранял фабричный сторож, но затем дом остался без охраны. И опять он стал объектом для местных жителей, которые по ночам, а то и днем, стали ломать перегородки, снимать трубы отопления, выносить все, что представляло ценность.
В 1993 году трое молодых и энергичных вичугских предпринимателей Андрей Расчетов, Андрей Золин и Александр Горохов выкупают пустующее здание у фабрики «Красный Профинтерн» и приступают к его восстановлению.
Начинается новый этап в жизни дома и всей деревни – реконструкция здания под цех по производству мебели и дверей. В здании восстанавливается отопление и водопровод, цех начинает выпускать продукцию и, что самое главное, цех дает работу жителям деревни Старая Гольчиха и пос. Красный Октябрь. Деревня оживает. Ремонтируется дорога до Старой Гольчихи, а зимой дорога очищается от снега. Производство расширяется. В конце 90-х годов ХХ века на предприятии работают более 100 человек со всей округи. В цеху даже сформирована очередь из тех, кто хотел бы устроиться на работу. Зарплата в разы больше чем в среднем по Вичугскому району. Наращивается выпуск продукции. Скоро предпринимателям становится тесно на одном предприятии. Отделяется Александр Горохов и переносит свою часть производства в Вичугу. В 2000 году свое производство по изготовлению мебели в Вичугу переносит и Андрей Расчетов.
Единоличным хозяином цеха становится Андрей Александрович Золин. Он строит отдельную котельную рядом с цехом, пристраивает гараж, складские помещения, увеличивая площади цеха почти на четверть.
В производстве «Два бобра», как стал называться цех, престижно работать. Из Вичуги рабочих доставляют транспортом предприятия. Да и в бытовом отношении деревня жила цехом, приходили за опилками, дровяными отходами, водой. За помощью со своими нуждами часто обращалась администрация Старогольчихинской школы.
Предприятие оживило деревню. Были планы по газификации цеха и школы, появилась надежда на газификацию и у деревни.
Но 28 ноября 2007 года цех сгорел. А.А. Золин в срочном порядке перевозит оставшееся оборудование в Вичугу. Через несколько месяцев, преодолевая огромные трудности, предприятие возобновляет деятельность, но уже по другому адресу: г. Вичуга, ул. Родниковская д. 1.
А цех до 2010 года стоял без крыши, окон и дверей. Разворовывался и растаскивался.
В 2010 году начинает последний этап в жизни дома – разборка. Особенно активно дом разбирался в 2012 году. В 2014 году самое большое каменное здание, которое пережило две революции, Великую Отечественную войну было разобрано.
От всего фабричного комплекса Старой Гольчихи на сегодняшний день осталось всего одно здание – Старогольчихинская основная школа. Все остальные здания разобраны. Кирпич повторно используется в строительстве, щебень – на ямочный ремонт дорог.
В 1927 году закончилась славная история фабрик деревни Старая Гольчиха. В советское время в деревне был организован колхоз, которому было дано имя Клима Ворошилова. В 60-х годах ХХ века он был закрыт и жители деревни были вынуждены искать работу в других населенных пунктах.
В 1993 году появилась надежда на то, что деревня возродится. Заработал цех. Люди стали возвращаться в деревню. Но 28 ноября 2007 всего лишь одна искра перевернула историю деревни.
За последнее время Старая Гольчиха заметно опустела. В ней проживают одни пенсионеры, молодые семьи уезжают, так как нет работы, и деревня не газифицирована. Уехали семьи Жуколиных, Куликовых, Свекольниковых. Деревообрабатывающий цех был последней надеждой на будущее для всех нас, в цеху работали жители Старой Гольчихи и окрестных деревень. Была уверенность в то, что со временем к предприятию подведут газ, а там голубое топливо появится у всей деревни. Но пожар в корне изменил ситуацию в самом большом населенном пункте нашей местности. Деревня жива лишь тем, что в ней находится школа. Наша школа является центром культурной общественной и образовательной деятельности нашей местности. В 2017 в гости в школу приезжала заслуженная артистка России Элеонора Шашкова, построена новая спортивная площадка, в школе работает прекрасный музей. Но работы в деревне нет. Можно только предполагать, как бы сложилась судьба деревни, если бы продолжали работать фабрики Старогольчихинских купцов и деревообрабатывающее предприятие, историю которого мы рассказали.
Две классические книжки, впервые изданные на русском
Брэм Стокер. Змеиный перевал. СПб: Лимбус-Пресс, Издательство Константина Тублина, 2018. Перевод О. Чумичевой
В общественном сознании классик английской литературы Брэм Стокер остается автором одной-единственной книги — легендарного «Дракулы». Однако в действительности его перу принадлежит еще по меньшей мере одиннадцать романов и три сборника рассказов, ни один из которых никогда прежде не публиковался в России. Петербургское издательство «Лимбус-Пресс» взялось, наконец, ликвидировать этот пробел в образовании отечественного читателя и выпустило второй по известности роман Стокера «Змеиный перевал» (судя по издательским аннотациям, дальше намечается целая серия стокеровской прозы).
«Змеиный перевал» из числа книг, которые с первой же страницы наводят на мысли о позднесоветском детстве: именно такие романы считались золотым стандартом развлекательного чтения в СССР эпохи застоя. На трехстах компактных страницах Брэм Стокер ухитряется разместить и таинственные клады, и любовь, и пространные описания величественных пейзажей, и соперничество друзей, и кельтские предания, и роковое злодейство, и даже (для поклонников «Собаки Баскервилей») зловещие трясины — словом, все, что в 70-е годы сделало бы «Змеиный перевал» Святым Граалем книжного спекулянта и лучшим подарком подростку и не только.
Молодой застенчивый Артур Северн, еще недавно нищий сирота, а ныне наследник всех своих родных, приезжает погостить к знакомым в Западную Ирландию. Остановившись переждать бурю на постоялом дворе возле горы под названием Ноккалтекрор, Артур узнает одновременно и о делах давних, и о событиях самого последнего времени. В древности, согласно преданию, именно с Ноккалтекрора Святой Патрик начал изгнание змей из Ирландии, однако не смог одолеть страшного Змеиного Короля, который, по мнению местных жителей, до сих пор скрывается где-то под горой и прячет там свои несметные сокровища. Сейчас же на Ноккалтекроре поселился злобный «гомбин» (ростовщик) по имени Мердок, пытающийся правдами и неправдами отнять землю у своего соседа, доброго и порядочного фермера Джойса, которому симпатизируют все местные жители. Не успевают добрые поселяне закончить свой рассказ, как на пороге появляются упомянутый Джойс вместе со своим заклятым врагом, и с этого момента жизнь Артура оказывается неразрывно связана с горой Ноккалтекрор, ее обитателями, а главное, конечно, с загадочной девушкой — дочерью фермера Джойса Норой, своевольной дикаркой и ласковой кошечкой одновременно (популярный типаж викторианской героини).
Для человека, читавшего «Дракулу» Брэма Стокера — роман не только крайне успешный, но и бесспорно замечательный, «Змеиный перевал» скорее всего покажется ступенькой вниз. Готический антураж в нем смотрится на скорую руку намалеванным задником (вообще, преувеличенная, едва ли не гротескная театральность — одна из доминирующих и не сказать, чтобы самых привлекательных черт романа), герои сводимы к конечному набору функций, а после первого же упоминания загадочного «блуждающего» болота у читателя не останется сомнений, какой смертью в финале погибнет злодей. И тем не менее, ощущение некоторой добротной основательности и надежной старомодной мейнстримовости делает «Змеиный перевал» чтением в высшей степени комфортным и согревающим. Наводящим, как уже было сказано, на мысли о советском детстве, зиме и ангине или, напротив, о каникулах, деревне и сладостной летней неге. Да и для ночного пересказа в пионерском лагере сгодится лучше некуда.
Кейт Шопен. Пробуждение. М.: РИПОЛ Классик, 2017. Перевод Е. Богдановой
В отличие от «Змеиного перевала» Брэма Стокера «Пробуждение» Кейт Шопен — головокружительный образец подлинно высокой классики, которую, в общем, уже и не рассчитываешь встретить за пределами традиционного канона, а встретив, испытываешь одновременно восхищение и обиду — где же его прятали все эти годы, почему этой книги не было у нас раньше. Один из главных романов американской литературы рубежа XIX-XX веков, книга, повлиявшая на Теннесси Уильямса, Уильяма Фолкнера и далее на всю традицию южного романа до «Маленького друга» Донны Тартт включительно — опубликован, наконец, по-русски, и это новость не просто хорошая, а по-настоящему замечательная.
Представьте себе текст, растущий из «Жизни» Ги де Мопассана, «Женского портрета» Генри Джеймса и «Анны Карениной» Льва Толстого, в котором уже вполне различимы предвестники «Унесенных ветром» Маргарет Митчелл и который в то же время сияет всеми красками цветущего и солнечного креольского Юга. Если этот мысленный эксперимент вам удался, можете считать, что вы составили некоторое представление о романе Кейт Шопен «Пробуждение».
28-летняя Эдна Понтелье, супруга успешного бизнесмена и мать двух очаровательных сыновей-погодков, отдыхает летом на острове Гранд-Айл неподалеку от Нового Орлеана в пансионе мадам Лебрен. Муж приезжает к ней на выходные, а безмятежные, бездумные и пустые будние дни Эдна проводит, болтая с другими дачниками, купаясь в море, рисуя акварели и заигрывая с сыном хозяйки пансиона Робертом — молодым человеком, который позиционирует себя как «часть развлекательной программы». Из года в год Роберт аккуратно и почтительно ухаживает за приезжающими на отдых замужними дамами, внося тем самым приятное оживление в монотонную курортную жизнь. Однако то, что начинается как респектабельный и легальный летний флирт, внезапно перерастает в гибельную страсть: влюбившись в Роберта всерьез, Эдна переживает вынесенное в заглавие романа «пробуждение» и осознает себя совсем не той женщиной, которой считала себя прежде и которой ее желает видеть луизианский бомонд. Эдна открывает для себя телесную сторону любви, понимает, что несчастлива в своем стабильном и благополучном браке, а главное, приходит к неутешительному и несколько запоздалому выводу, что не создана для материнства и остро нуждается в самовыражении за пределами семьи. Конечно, при таких исходных данных трагическая развязка неизбежна, причем главной ее причиной становится не столько давление консервативного общества (оно в романе предстает скорее растерянным и напуганным силой эдниного порыва), сколько неразрешимый внутренний конфликт.
В Америке начала ХХ века «Пробуждение» казалось романом скандальным, а героиню его порицали за распутство и пагубное легкомыслие. Спустя годы книга Шопен стала восприниматься как ранний манифест феминизма, призывающий женщин к борьбе за свои права. Сегодня, когда, казалось бы, с правами достигнута некоторая ясность, а распутство и легкомыслие выглядят совсем иначе (если вообще сохранились на нашей ментальной карте), полемический пафос романа вновь отходит на задний план. Через сто с лишним лет после написания «Пробуждения» мы чуть ли не впервые можем прочесть его как универсальную и вневременную, а оттого совершенно душераздирающую историю женщины — да даже и не обязательно женщины, а любого человека, ищущего одновременно свободы и покоя, разрывающегося между естественным желанием следовать общепринятым нормам и столь же естественной потребностью им противостоять.
Пошли за шерстью – вернулись стрижеными…
Мы рассказывали о том, что современная биология переживает настоящий бум исследований в области эпигенетики – т. е. эффектов и механизмов, связанных с регуляцией активности генов в разных тканях организма и на разных этапах его развития. Мы говорили о том, что такого рода изменения активности генов часто закономерно происходят в ответ на те или иные изменения условий жизни. При этом они могут в какой-то мере наследоваться и обнаруживаться у ближайших потомков того животного, которое подверглось вызвавшему их воздействию. В силу этого многие ученые сегодня склонны видеть в эпигенетике механизм наследования благоприобретенных признаков – явления, казалось бы, полностью отвергнутого биологией ХХ века. Однако подобная интерпретация эпигенетических эффектов при внимательном рассмотрении вызывает некоторое удивление: энтузиасты «эпигенетического ламаркизма» видят в них прежде всего механизм адаптации, приспособления организмов к изменившимся внешним условиям, в то время как приводимые ими факты говорят о том, что эпигенетические изменения скорее контрадаптивны. Мы удивлялись, что этого противоречия словно бы никто и не замечает.
Однако вскоре после выхода нашей статьи об эпигенетике один из ведущих научных журналов мира – Nature опубликовал очередную работу американских биологов, ведущих многолетнее исследование эволюционных процессов в природных популяциях рыбок гуппи в речках и ручьях острова Тринидад. Хотя в этой работе не изучалось эпигенетическое наследование и даже не встречается слово «эпигенетика», само исследование выглядит прямым (и весьма убедительным) ответом на заданный нами вопрос. Но прежде, чем рассказывать о нем, нужно сказать несколько слов об уникальном научном проекте, частью которого оно является.
Сага о тринидадских гуппи
Рыбка гуппи знакома, наверное, всем – даже тем, у кого никогда не было своего аквариума. Но не все знают, откуда она родом. В природе гуппи живут в Центральной и на севере Южной Америки – в частности, на Тринидаде, где они населяют ручьи и мелкие речки, в изобилии стекающие со склонов Северной горной цепи острова. В этих потоках относительно глубокие и медленно текущие плесы чередуются с перекатами и небольшими водопадами. Гуппи держатся в основном на плесах, на перекаты заплывают редко, а водопады для них почти непреодолимы (хотя иногда им, видимо, все же удается прорваться через эти преграды – как показывают молекулярно-генетические исследования, «верховые» популяции гуппи обычно происходят от тех, что расположены ниже по течению). В результате все гуппиное население водоема оказывается разбито на цепочку локальных популяций, изолированных или почти изолированных друг от друга. В тех же водоемах живут и враги гуппи – хищные рыбы, но для них мелководья и водопады – препятствие еще более серьезное, чем для гуппи. Поэтому хищников много в низовьях ручьев и в более-менее крупных речках, по мере подъема вверх их разнообразие уменьшается, и в верховьях можно найти заводи, где хищников нет вовсе или они представлены только одним видом – самым мелким, нападающим почти исключительно на молодь гуппи. Еще выше расположены плесы, в которых гуппи тоже вполне могли бы жить, но не живут – еще не добрались.
Такие местообитания открывают широчайшие возможности для экспериментального изучения экологических и эволюционных взаимоотношений хищников и жертв. Можно пересаживать рыбок из популяций, находящихся под прессом хищников, в безопасные местообитания и наоборот, из спокойных плесов в воды, кишащие хищниками; подпускать хищников в мирные заводи и т. д. – и смотреть, какие изменения в облике, физиологии и поведении гуппи повлечет за собой изменение риска быть съеденным.
Первые исследования такого рода были проведены еще в 1957 году, а начиная с конца 1970-х они стали постоянными. Их ведут разные группы ученых, причем позднейшие исследователи имеют возможность продолжать и видоизменять эксперименты, начатые их предшественниками, и оценивать их отдаленные результаты. Главное достоинство этого эпического проекта – в том, что он сочетает строгость лабораторного эксперимента с безусловной естественностью изучаемых процессов. В самом деле, изучаемые рыбки во время эксперимента продолжали жить в своей обычной среде обитания, и все, что с ними происходило, могло происходить с их собратьями без всякого вмешательства людей. В частности, отбор ведут не исследователи, а хищные рыбы, и взаимодействие хищников и жертв происходит не в искусственной системе, состоящей только из этих двух компонентов, а в полноценном природном сообществе. В то же время возможность манипулировать одним строго контролируемым фактором позволяет вычленить именно его роль во всей совокупности взаимодействий, в которые вступают популяции гуппи в природе.
За десятилетия наблюдений и экспериментов было получено много интереснейших результатов, но рассказ о них требует отдельной статьи (возможно, даже не одной). Для нас сейчас важно, что еще на заре «Проекта Гуппи» было надежно установлено следующее:
1. Присутствие хищников (а также их обилие и видовое разнообразие) – очень важный фактор, в значительной степени определяющий направление эволюции гуппи в тех местах, где хищники есть.
2. В отсутствие хищников основным фактором эволюции оказывается внутривидовая конкуренция за ресурсы – в частности, конкуренция самцов за самок.
3. В случае появления или исчезновения в водоеме хищников эволюционные сдвиги в облике и особенностях индивидуального развития гуппи обычно можно заметить через три-четыре поколения (что в зависимости от особенностей места обитания занимает от года до 2,5 лет). Изменения же в поведении развиваются уже у первого поколения рыбок, столкнувшихся с новой для себя ситуацией – и следовательно, являются результатом не эволюции, а индивидуального приспособления.
Эти положения кажутся почти тривиальными. Тем не менее их желательно помнить для правильного понимания результатов очередного исследования, проведенного на тринидадских гуппи.
«…Что любое движенье направо начинается с левой ноги»
Объектом нового исследования группы ученых во главе с одним из основных участников «Проекта Гуппи» Дэвидом Резником стали четыре популяции гуппи. Популяция №1 жила в относительно большой и глубокой реке, где было немало охотящихся на гуппи хищников, самым опасным из которых была хищная цихлида Crenicichla frenata. Популяция №2 обитала в маленьком ручье, где хищников не было вообще. Молекулярно-генетический анализ показал, что популяция №2 когда-то отпочковалась от популяции №1, но как давно это случилось, оставалось неизвестным – хотя было ясно, что она живет в безопасных водах уже много поколений. Популяции №3 и 4 ученые создали сами, взяв некоторое число рыбок из популяции №1, пересадив их в заводи без хищников и подождав, пока там сменятся три-четыре поколения (как мы помним, минимальный срок для наступления заметных эволюционных изменений). По сути эти две популяции воспроизводили популяцию №2 на самом начальном этапе ее независимой эволюции.
Первым делом ученые взяли достаточное количество взрослых самцов из всех четырех популяций и померили активность всех генов, работающих в клетках их мозга (это можно сделать, просто подсчитав количество одновременно присутствующих в клетках информационных РНК, снятых с каждого гена). Сравнив активность каждого отдельного гена в разных популяциях, они выявили 135 генов, активность которых в дочерних популяциях отличалась от их активности в популяции №1. Причем активность каждого из этих генов во всех трех дочерних популяциях была смещена в одну и ту же сторону (увеличена или уменьшена) по отношению к материнской. Это позволяло предположить, что эти сдвиги отражают не случайные различия, а именно приспособление к новым условиям обитания – отсутствию хищников. Активность генов зависит как от внешних сигналов, так и от «содержания» других областей генома – регуляторных участков ДНК, генов так называемых «факторов транскрипции» (сигнальных белков, регулирующих интенсивность работы других генов) и т. д. – и в меру этой зависимости подлежит действию естественного отбора. Так что изменения в активности 135 генов могли быть суммой «быстрой» фенотипической (эпигенетической) реакции и генетических изменений под действием естественного отбора.
Каков же вклад каждого из этих факторов? Чтобы выяснить это, ученые взяли еще одну группу самцов из популяции №1 и рассадили по двум аквариумам с проточной водой. В один вода поступала из другого аквариума, где жила хищная креницихла, которой ежедневно скармливали по две гуппи – так что гуппи из первого аквариума постоянно чувствовали запах хищника и «феромон тревоги», выделяемый его жертвами. Поскольку рыбки были из популяции №1, для них эти пугающие сигналы были привычными – в своей родной речке они тоже постоянно сталкивались с ними. Через другой аквариум текла просто чистая вода без всяких следов присутствия хищника – и это для рыбок из популяции №1 было совершенно новой ситуацией.
Через две недели (довольно большой срок в масштабах гуппиной жизни) ученые сравнили активность уже известных им 135 генов у гуппи из двух аквариумов. Поскольку геном рыбок измениться не мог, различия в активности генов в этом эксперименте могли отражать только индивидуальную фенотипическую реакцию на изменившиеся условия.
И вот тут выяснилось самое интересное. Из 135 исследованных генов 120 (89%) отреагировали на исчезновение хищников изменением активности в сторону, противоположную той, в которую она менялась в ходе эволюционного приспособления к отсутствию хищников. То есть те гены, которые в ходе эволюции увеличивали свою активность, в ходе индивидуальной реакции ее уменьшали – и наоборот. Наблюдалась даже некоторая пропорциональность: чем сильнее интенсивность работы того или иного гена отклонялась от исходных значений у рыбок, только что столкнувшихся с отсутствием хищника, – тем больше было ее отклонение в противоположную сторону через три-четыре поколения жизни в безопасности. А те 15 генов, у которых направление индивидуальных изменений активности совпало с эволюционным, отличались наиболее слабыми изменениями ее в обоих случаях.
Конец прекрасной идеи
Какое все это имеет отношение к вопросу об эволюционной роли эпигенетических эффектов? Самое прямое: изменения активности генов в ходе жизни особи (в отличие от тех, что происходят в ряду поколений) – это и есть эти самые эпигенетические эффекты в чистом виде. Правда, группа Резника не изучала возможность и степень их наследования – этого не позволяли применяемые методы измерения активности генов. Но и без этого картина ясна: эпигенетические сдвиги не «предвосхищают» последующие эволюционные изменения, не «прокладывают пути» для них, а уводят организм куда-то совсем не туда. Конечно, такая картина получена хотя и для очень большого числа генов, но все-таки для единственного вида и для адаптации к единственному фактору – исчезновению хищников. Но в сопоставлении с тем, что мы видим едва ли не во всех работах по «эпигенетическому ламаркизму» (если отвлечься от рассуждений авторов и смотреть только на приводимые ими факты), разнонаправленность эпигенетических и эволюционных сдвигов предстает общей закономерностью. Кстати, сами авторы «гуппиного» исследования так прямо и пишут, что фенотипическую пластичность можно использовать для прогноза направления эволюции под действием того или иного нового фактора – например, глобального потепления. Мол, глянул, как изменилась активность тех или иных генов у первого поколения, попавшего под действие этого фактора, – и уверенно предсказываешь, что в эволюции все будет наоборот.
Конечно, если в свете этого оглянуться на историю эволюционной идеи в биологии, на язык невольно запросятся иронические комментарии. Боже мой, сколько квадратных километров бумаги было исписано за последние двести лет глубокомысленными словесами о «жизненном порыве», «воле», «стремлении», «аккумуляции усилий» и всем таком прочем, что позволяет животному самому влиять на свою будущую эволюцию! Сколько блестящих умов – от Ламарка до Анри Бергсона и Бернарда Шоу – обольщались этой красивой идеей! Сколько упреков, насмешек, патетических обличений было обрушено на «догматиков»-дарвинистов, злостно игнорирующих эту великую творческую силу! И вот оказывается, что эта великая сила способна только создавать дополнительные препятствия на пути реальной эволюции. Разгребать которые приходится все тому же невозмутимому и трудолюбивому «демону Дарвина» – естественному отбору. (О том, как в свете данных группы Резника выглядят теоретизирования современных энтузиастов «эпигенетического ламаркизма», мы лучше милосердно промолчим.)
Но ирония – иронией, а как же все-таки понимать этот результат? Сами авторы работы предлагают простую трактовку: именно неалаптивность «первой реакции» активности того или иного гена – причина особенно быстрой эволюции ее в ближайших поколениях. Чем вреднее будет модификационное (негенетическое) изменение того или иного признака, чем сильнее оно осложнит жизнь своих обладателей – тем ценнее будет любое мутационное (генетическое) изменение, сдвигающее этот признак в обратную, полезную сторону, тем жестче будет отбор в пользу такого генетического варианта. И тем быстрее, следовательно, этот признак будет эволюционировать в ближайших поколениях. Эта мысль даже вынесена в название статьи Резника и его коллег: «Неадаптивная пластичность усиливает быструю адаптивную эволюцию экспрессии генов в природе».
Это рассуждение звучит вполне правдоподобно и к тому же подтверждается некоторыми косвенными особенностями наблюдаемой картины (сужением размаха колебаний уровня активности для изученных генов в «безопасных» популяциях по сравнению с «живущими в опасности»). Однако остается вопрос: почему же «быстрые» изменения активности генов столь неотвратимо неадаптивны? Даже если они никак не связаны «по смыслу» с тем, чего требуют от организма изменившиеся условия среды, – почему бы им хотя бы в половине случаев не оказаться полезными? Ну или хотя бы нейтральными? Собственно, почему эти гены вообще закономерно реагируют на данное изменение в среде, если эта реакция никак не связана с этим изменением и не содействует адаптации к нему?
Логика конструктора и логика техника
Пять или шесть лет тому назад российский этолог и эволюционист Владимир Фридман, пересказывая и комментируя в своем блоге результаты «Проекта Гуппи» (и, разумеется, ничего не зная о нынешней работе группы Резника, которая в то время даже еще не начиналась), обратил внимание на одно любопытное, но не привлекавшее особого внимания обстоятельство. Известно, что любому живому существу постоянно приходится искать компромисс между противоречивыми требованиями окружающей среды – в частности, между нуждами размножения и самосохранения. Слишком страстные сексуальные устремления, слишком большой вклад в потомство, раннее созревание, минимизация резервов организма и т. д. неизбежно влекут увеличение рисков – быть замеченным и съеденным хищником, не пережить неблагоприятный сезон и т. д. И наоборот: особь с неброской внешностью, неактивная в поисках партнера, легко прерывающая брачные ритуалы при малейшей угрозе, долго растущая и накапливающая запасы, прежде чем вступить в размножение, проживет, скорее всего, дольше других, но рискует не оставить потомков. Значит, надо выбирать какую-то промежуточную стратегию, а при изменении обстановки (например, резкого увеличения угрозы со стороны хищников) – смещать ее в ту или другую сторону. Такие же компромиссы приходится, согласно современным эволюционным моделям, искать и виду в целом.
Так вот, Фридман обратил внимание на то, что в опытах со вселением хищников в безопасные дотоле заводи (т. е. в ситуации, обратной той, которая исследовалась в нынешней работе) изменения в индивидуальном поведении рыбок и эволюционные изменения в популяции пошли в разных и до некоторой степени противоположных направлениях. Гуппи (особенно самцы) стали осторожными, пугливыми, расходовали гораздо меньше времени и сил на ухаживания и всегда готовы были их прервать – то есть изменили свое поведение в сторону большей заботы о личной безопасности в ущерб заботе о размножении. А в ряду поколений изменения шли в сторону мелких, быстро созревающих, сексуально активных особей – т. е. в сторону роста «вложения» в размножение за счет уменьшения «вложений» в собственный размер и безопасность. По сути дела Фридман на чисто фенотипическом уровне заметил тот же парадокс, который сейчас группа Резника наглядно продемонстрировала на уровне генетическом – или точнее, эпигенетическом. И то, что при рассмотрении одной лишь активности генов и ее изменений, кажется загадочным и противоестественным, при взгляде на фенотипическое выражение приобретает вполне внятный смысл.
Получается, что мы (как и авторы статьи в Nature) были не вполне правы, назвав индивидуальные изменения «контрадаптивными» или «неадаптивными» на том лишь основании, что они противоречат последующим эволюционным изменениям. Возможно, что на самом деле эти сдвиги по-своему адаптивны – только это совсем другая стратегия адаптации, ставящая во главу угла другие приоритеты и потому плохо совместимая с адаптацией эволюционной.
Пояснить сказанное можно такой аналогией. Представим себе авиаконструктора, которому нужно, допустим, модернизировать истребитель. Ему приходится учитывать целый ряд противоречащих друг другу требований: машина должна летать быстрее, чем предыдущая модель (и чем самолеты противника), но при этом нельзя уменьшать ее маневренность, ослаблять вооружение, уменьшать время, которое она способна находиться в воздухе, и т. д. Чтобы улучшить одни и сохранить на прежнем уровне другие важные в бою характеристики, конструктор решает пожертвовать долговечностью машины – исходя из того, что подавляющее большинство этих самолетов все равно не доживет до опасной степени износа. Но вот истребитель спроектирован, принят на вооружение, поступил в войска и оказался там на попечении аэродромных техников. Техник не имеет возможности существенно изменить конструкцию самолета, да и вообще его задача – не обеспечить превосходство данной модели, а поддерживать в наилучшем из возможных состояний данный конкретный экземпляр. Поэтому он будет стараться улучшить то, что он может улучшить, – в частности, продлить ресурс машины, т. е. сделать ее более долговечной. И даже не задумается о том, что это противоречит логике изменений, внесенных конструктором – да и всему тренду развития истребительной авиации.
Можно предположить, что если не во всех, то во многих случаях примерно так же соотносятся индивидуальные изменения с эволюционными. Механизмы индивидуальной пластичности не могут сколько нибудь существенно изменить морфологию данной особи, не говоря уж об особенностях индивидуального развития, которое она давно прошла. Они могут изменить только ее поведение и – в тех или иных пределах – «текущую» физиологию. И меняют их так, чтобы обеспечить максимальную безопасность и благополучие данной особи. В конце концов, откуда им знать, как надолго пришли перемены? Может быть, это только краткая полоса, и главная задача – пережить ее любой ценой? А вот если оказывается, что перемены – всерьез и надолго (по крайней мере – по сравнению со сроком индивидуальной жизни), в дело вступает естественный отбор, способный вносить изменения в саму «конструкцию». Но он уже имеет дело не с индивидуальными особями, а с генами, и потому его приоритеты могут быть совсем иными.
Разумеется, это только одна из возможных гипотез. Противоречие между направлением индивидуальных и эволюционных изменений может объясняться чем-нибудь совсем иным – например, ошибками компенсационных механизмов. Вспомним, что в отсутствие хищников самцу выгодно быть цветастым и уделять брачным демонстрациям как можно больше времени и сил. Но когда хищники исчезли внезапно, может резко увеличиться частота встреч с самцами-конкурентами – отчасти из-за реального роста никем не поедаемой популяции, отчасти из-за того, что все разом перестали прятаться. А частое лицезрение соперников приводит к стрессу, который угнетает и яркую окраску, и сексуальную активность. Через три-четыре поколения естественный отбор исправит эту ошибку (например, повысив порог стресс-реакции), изменения пойдут в «правильную» сторону – но это будет уже потом.
Можно, наверно, придумать и еще какие-нибудь модели. И запросто может статься, что в одних случаях верны одни объяснения, в других – другие. Пока что же нам важен сам факт разнонаправленности индивидуальных реакций особей и дальнейшей эволюции популяции. И исходя из него, можно предположить, что даже в тех случаях, когда направление этих изменений совпадает (см. ниже) – это именно всего лишь совпадение, а не внутренняя связь. Вероятность перерастания эпигенетических изменений в эволюционные примерно равна вероятности превращения лейки огородника в дождевую тучу.
Опыт небывалого
Здесь можно было бы поставить точку, но у читателей, помнящих хотя бы школьный курс биологии, наверняка уже давно вертится на языке вопрос: а как же знаменитые модификации, «определенная изменчивость»? Нас же в школе учили, что они обычно адаптивны! Читатель, знакомый с биологией более глубоко, вспомнит и про «генетическую ассимиляцию» и «эффект Болдуина» – ситуации, когда те или иные изменения (предположительно адаптивные) возникают сначала как чисто фенотипические варианты, а через какое-то число поколений становились генетически предопределенной нормой. Как это совместить с закономерностью, открытой группой Резника?
Вряд ли кто-то сейчас может дать исчерпывающий и бесспорный ответ на этот вопрос – ведь «эффект Резника» только что обнаружен, и его детальное исследование впереди. Но самое простое и очевидное соображение можно прочитать в любом приличном учебнике по теории эволюции: адаптивные модификации – не первые шаги эволюции, а ее результат, сформированный ею приспособительный механизм. Помимо всего прочего это означает, что они «включаются» в ответ на что-то, с чем данный вид более-менее регулярно сталкивался в ходе своей предыдущей эволюции. Знаменитое растение стрелолист под водой выпускает лентовидные листья, а над водой (или при произрастании на суше) – стреловидные, потому что он может расти и на мелководье, и на берегу, и на земле, которая несколько раз за лето успеет побывать то дном, то берегом. Геном стрелолиста эволюционно «знаком» с обоими наборами условий и имеет свою программу формирования листа для каждого из них. Рачок артемия имеет разное строение своих хвостовых члеников в зависимости от того, при какой солености воды он развивался, потому что этот рачок может жить в водоемах с разной соленостью, и его геном готов к любому ее значению в довольно широких пределах. Если бы хищные рыбы в тринидадских ручьях то появлялись бы во множестве, то полностью исчезали (или если бы каждый малек гуппи мог со сравнимой вероятностью оказаться как в водоеме, кишащем хищниками, так и в безопасном), возможно, гуппи бы выработали механизмы, позволяющие особи при одних и тех же генах развиваться либо в форму, приспособленную к опасностям, либо в форму, выгодную при их отсутствии – а то и переходить из одной в другую в течение жизни. Но попадание рыбок из зашуганной хищниками популяции в безопасную заводь – явление слишком редкое и нерегулярное, чтобы стать фактором отбора; вселение хищников в мирные прежде воды случается еще реже, а их полное исчезновение там, где они прежде водились в изобилии, может быть только чудом или началом очередного эксперимента в рамках «Проекта Гуппи». Понятно, что предыдущая эволюция не снабдила вид никакими инструкциями на случай столь нештатных ситуаций.
Такая интерпретация, кстати, поясняет, почему в большинстве экспериментов по эпигенетическому наследованию наблюдаемые сдвиги оказываются явно неадаптивными. Дело в том, что факторы, вызывающие их (от постоянного обилия высококалорийной еды до воздействия никотина), – это то, с чем данный вид в своей предыдущей эволюции не сталкивался. И что, следовательно, требует не извлечения из прежнего эволюционного опыта какого-то «запасного плана действий», а выработки совершенно нового эволюционного ответа на новый вызов.
То же самое, собственно, можно сказать и о действиях научного сообщества по отношению к новым открытиям: для их понимания нужно не примерять на них архаичные теории, а вырабатывать новые.
Перевернув страницу
В середине прошлого века человечество узнало о человеке что-то недоступное пониманию. Катастрофа залегла на дне сознания и прочно там угнездилась. При мысли о ней сразу открывается вечная серая ночь, полная беспросветного отчаяния, бесконечного унижения. Унижения, которое невыносимее и страшнее смерти. Это чувство лежит на дне души, в какой-то тайной расщелине, и как будто мешает вздохнуть. Мешает жить.
Все помнят крайне резкое утверждение Теодора Адорно о невозможности «стихов после Освенцима». Оно не вызвало тогда решительных возражений и казалось единственно законным. Собственно, кажется таким и сейчас. Существует безусловное, природное родство поэзии и человеческого разума, а опыт того времени с разумом не совмещался.
Этот запрет, больше похожий на заклятие, поэзия потом как будто забыла или вынесла за скобки ради продолжения своего существования. Но именно «как будто». Сам механизм продолжения существовал — и продолжает существовать — в какой-то зоне неопределенности. Эту позицию, собственно, никто не отменял. Время перевернуло страницу, но и прежняя все еще очень хорошо читалась. Даже уйдя в подсознание поэзии, запрет продолжал существовать.
Но ситуация «стихи под запретом» не означает, что их не надо писать. Самые важные сдвиги в искусстве происходят, когда нарушается какой-то запрет, гласный или негласный. Постановление о невозможности стихов — это самый серьезный вызов, то есть самый нешуточный повод на него отозваться.
Именно этим занимались в 50-е — 70-е годы прошлого века некоторые русские авторы, а к началу 80-х у народившейся системы как будто выровнялось дыхание. То есть примерно в это время она перешла из состояния допущения и предположения в состояние очевидного литературного факта. Такого события ничто не гарантировало и даже не предвещало. Скорее наоборот. Без преувеличения можно сказать, что новая русская поэзия выросла из ощущения запретности, невозможности письма. Это и есть ее самое краткое определение.
Это, разумеется, не значит, что тогда в русской поэзии все и сразу переменилось. Продолжала существовать и прежняя поэтическая система, имеющая свои твердые основания и прочно за них держащаяся. То есть внутри русской поэзии можно различить две поэзии: ту, что выросла из запрета на «стихи», и ту, что его не заметила. Это разделение присутствует и сейчас, только не так очевидно. Есть авторы, умеющие писать стихи и искренне не понимающие, отчего бы этим умением не воспользоваться. И есть те, кто ничего заранее не умеет, а только ждут: вдруг что-то сдвинется в мире, и тогда можно дунуть в образовавшуюся трещину и послушать, что получится, какой именно звук. Постоянно прислушиваются к возможности стихотворения, а эта возможность всякий раз меняет основание.
Новая русская поэзия возникала в формах очевидно непривычных, таких как конкретизм Холина и Некрасова, концептуализм Пригова и Рубинштейна, минимализм Ахметьева. «Пишет стихи из отдельных букв», — вот первое, что я услышал о Всеволоде Некрасове. Поразительно, что это дикое определение и было самым точным, причем не только для Некрасова. При распадении прежних связей и язык распался даже не на слова, а словно бы на буквы. Потому и собирался заново почти по буквам — с трудом, с сильнейшим сопротивлением, и это «сопротивление материала» деформировало высказывание. Собственно, преодоление такого сопротивления и было высказыванием.
Вероятно, поэтому в общественном сознании как-то закрепилось убеждение, что работа с «невозможностью письма» — дело только явных новаторов того времени, в основном конкретистов и концептуалистов. То есть тех, кто в своей работе превращал эту невозможность в какие-то очевидные и конструктивно внятные вещи. Ощущение «невозможности письма» эти авторы действительно сделали основой письма иного рода, но само это ощущение было свойственно не только им. И не только они строили на нем свою работу.
Авторы-ровесники 70-х годов считали себя просто дружеской компанией и очень долго полагали, что занимаются совершенно разными делами. Пожалуй, только сейчас это разъясняется абсолютно противоположным образом. Мнили себя компанией, а оказались поколением с общей художественной задачей. У каждого времени своя работа, но осуществляться она может разными способами.
Две новых линии 70-х существовали в скрытом взаимодействии, хотя следующие поколения ясно распознали только одну линию из двух — условно концептуальную.
Можно сказать, что эти линии различаются как твердые и мягкие художественные формы. Твердые появляются как маски поверх живого; как личины жизни-обряда. Мягкие существуют в том числе в щелях и пазухах, они скрепляют «твердое», которое без них распалось бы на отдельные «художественные жесты».
Новая органика начиналась с языкового расплава, расплавляющего омертвевшие конструкции. Это попытка сделать язык инструментом вовсе не твердым, совсем не острым. Не рассекающим ткань существования, а способным действовать в ее эпителии.
Трудно говорить о недостатках своего поколения, учитывая сколько (и каких!) авторов осталось недопонятыми, полупрочитанными, вовсе не прочитанными. У нас была как будто одна задача: устоять на месте. Может, поэтому не находилось работы для тех мускулов стиха, что наращиваются в движении (тематическом, историческом). Когда появилась возможность движения, пришли в действие и эти мускулы. Враждебность к твердым формам, применяемым как фальшивые каркасы, осталась навсегда, но вот недоверие к любой твердости вообще пришлось постепенно изживать.
История татарской письменности в истории моей семьи
Автор: Алсу Хаммадова. На момент написания работы ученица 10 класса гимназии №5 г. Зеленодольска, Республика Татарстан. Научный руководитель Резеда Шамилевна Багавиева. 2-я премия 18 Всероссийского конкурса «Человек в истории. Россия – ХХ век», Международный Мемориал.
Долг каждого настоящего мусульманина – знать наизусть свою родословную до 7 колена. Исповедующий ислам человек при молитве обязан вспомнить и назвать своих предков до 7 колена. Но у моего народа эта традиция возникла значительно раньше, ещё до принятия ислама. Знать свои корни был обязан каждый уважающий себя татарин. Годы советской власти, к сожалению, вытравили из памяти многих семей историю, обычаи и традиции народа. Уверена, что это была целенаправленная политика советского государства. Иванами, не помнящими своего родства, стали представители многих народов и этносов СССР. Ведь людьми без истории легче управлять. Многие мои одноклассники с трудом называют имена своих прадедушек и прабабушек. Всё из-за того, что их бабушки и дедушки были представителями советского народа.
А на уроках истории им было сказано, что в ближайшие 50-70 лет не будет ни татар, ни мари, ни башкир – будет единый советский народ с общим языком. Безусловно – русским.
Ситуация стала меняться в конце XX века, после распада СССР. Изучение истории своего народа, сохранение своей культуры и языка стало частью национальной политики Республики Татарстан, изучение истории своей семьи – важной, интересной и необходимой частью жизни каждого культурного, уважающего себя человека. Открылись национальные школы, в одной из которых я учусь. В нашей татарской гимназии есть предмет – история Татарстана, мероприятия у нас проходят на татарском языке, и мы гордимся своей историей, своими предками. У нас есть этнографический музей, музей истории «Татары – Герои Советского Союза в Великой Отечественной войне», созданные силами сотрудников гимназии при участии гимназистов; музей татарского писателя, члена писателей РТ, много лет отдавшего нашей гимназии в качестве преподавателя, Азата Вергазова. У нас работает Виль абый – замечательный художник; скульптор, музыкант Шарафутдинов Виль Шариязданович. Он учит школьников игре на курае, его картины выставлены в галерее гимназии, а созданные им скульптуры украшают не только музеи гимназии, но и улицы наших районов и деревень. Есть в гимназии уголок, посвященный советской эпохе.
Сегодня стало модным знать своих предков. Но составление родословной – дело очень непростое. И хотя мне невероятно повезло (благодаря моим родственникам я знаю историю моей семьи с конца XVIII века), все же существуют очень серьезные препятствия, мешающие полноценно погрузиться в историю своей семьи даже при наличии артефактов.
Одно из них – это татарская графика, которую в XX веке меняли трижды: до 1920 года (с X века – времени принятия ислама) существовала арабица (арабское письмо «иске имлә» — старое письмо); с 1920 по 1927 – упрощенная арабская графика, так называемое новое письмо – «яңа имлә»; с 1927 по 1939 – латиница; с 1939 по настоящее время – кириллица. Так «повезло», по-моему, только моему народу. Хотя объективности ради следует сказать, что в подобной ситуации оказались и другие тюркоязычные народы. Если русскому человеку не нужно особых усилий, чтобы прочитать письмо, написанное на русском языке в XVIII-XIX веках и даже ранее, то чтобы прочитать письмо татарина, например, с Великой Отечественной войны, потребуется приложить немало усилий и затратить немало времени, если это латиница, и месяцы упорного труда, если это арабская вязь, возможно даже, что придется прибегнуть к помощи немногочисленных специалистов.
Таким образом, в своей работе я хотела бы коснуться именно этой проблемы: влияние государства на судьбы людей через языковую политику.
Историю нашего рода нам удалось проследить до XVIII века. Оказалось, что в роду Хаммадовых (по линии моего папы) до 1912 года все мужчины были священнослужителями. При каждой мечети, как известно, существовало медресе, поэтому мулла – это не только духовный наставник, но ещё и учитель в прямом смысле этого слова. Он занимался обучением детей и взрослых, учил не только слову Божьему, но и письму, чтению, грамоте, счёту, литературе. То, что население России было поголовно неграмотным, – это миф. Казанские татары в дореволюционной России были одной из наиболее образованных народностей. По переписи 1897 г. читать на родном языке умело 87% татар, т.е. грамотных среди них было в три с лишним раза больше, чем в среднем по стране (27%), и всё это благодаря религии, мечетям, труду священнослужителей, к числу которых принадлежали и мои предки.
Я бы хотела подробнее остановиться на личности моего прадеда – Хаммадова Кашафа, который всю свою жизнь проработал простым учителем.
Он родился в многодетной семье муллы в 1892 году, учился в медресе (аналог церковно-приходской) в родной деревне, в 1904 году поехал в Казань продолжить своё образование в медресе «Халидия» при Четвёртой соборной («Голубой») мечети (была закрыта постановлением Секретариата ТатЦИКа от 10 марта 1932 г.). Свою деятельность в качестве учителя он начал в год окончания медресе – в 1910 году в том же медресе «Халидия». Закончил педагогическую деятельность в 1955 году. В 1916-17 служил в царской армии по призыву.
Мой прадед был хорошо образованным человеком, он много читал, хорошо знал литературу, сам писал стихи. У нас в доме хранится книга с его поэмой, прочитать которую не может никто. Я год занималась в медресе, освоила арабскую графику, но у нас не преподают старое письмо. Поэтому я не могла понять, что это за книга и что в ней напечатано. Знала только название произведения прадеда «Волки»
Не смог прочитать это произведение и мой учитель татарского языка. Помог другой учитель татарского языка – Рахатуллин Рахип Мубинович, работающий в нашей гимназии, к которому обратилась за помощью моя учительница по русскому языку Багавиева Резеда Шамилевна. Он не только объяснил, что это за книга, но и перевел поэму.
Как выяснилось, книга эта выпущена в 1913 году и называется «Новая литература». В ней напечатаны произведения татарских писателей и поэтов, в том числе и поэта №1 для татар – Габдуллы Тукая (это как Пушкин в русской литературе).
Стихи моего прадеда в одном ряду с великими поэтами! Я, правда, не поняла, альманах это или хрестоматия по татарской литературе, но меня удивила строка перед поэмой моего родственника – если переводить дословно: «из Хаммадова». Значит, его творчество было достаточно обширным? Очень хотелось бы узнать, но в современной графике вряд ли можно найти его стихи. Хотя я очень постараюсь. Из автобиографии прадеда я узнала, что до революции многие его произведения были опубликованы в татарских журналах и газетах, в том числе и детских. Часть произведений основана на татарском фольклоре. Именно издательство дало рекомендацию моему прадеду и направило его в сельскую школу учительствовать.
Среди настольных книг моего прапрадеда оказались и переводы стихов восточных поэтов, например, Физули.
Несмотря на то, что религия была отделена от государства, и активно пропагандировался атеизм, а прапрадед мой работал учителем, он не перестал верить в бога. Об этом говорят многочисленные молитвенники, доставшиеся ему от его родителей и хранящиеся у нас дома. Они зачитаны буквально до дыр.
Многие наши соотечественники эмигрировали в начале XX века в Китай, а из Китая большая их часть (значительно позже) – в Австралию. Несколько студентов-татар из Китая приезжали к нам в гимназию и рассказали о немногочисленной татарской диаспоре в Китае (по их сведениям, около 9 тысяч человек. По данным Википедии – 7400). Мы с радостью и удивлением услышали их речь, узнали, что татары Китая пользуются арабским письмом по настоящее время. То есть устное общение между нами возможно, письменное, к сожалению, нет.
Русский язык мой прапрадед освоил самостоятельно, беря частные уроки.
И если русский язык со временем можно было только совершенствовать, татарской письменности нужно было сначала переучиваться, а потом и заново учиться! И всё это на фоне очень непростой жизни. Как известно из истории, уже в 1918 году начались процессы перераспределения конфискованных у богатых земель, распределение конфискованного инвентаря, продовольственных излишков. У некоторых наших родственников в то время были отобраны так называемые «излишки», хотя семьи были многодетными и особо не шиковали. Вряд ли корову при наличии детей можно считать излишеством. К тому же в Поволжье в 1921—1922 годах свирепствовал голод. К тому времени у прадеда уже была своя семья: молодая жена (тоже учитель) и двое детей.
Мой прапрадед не стал дожидаться, когда заберут последнее, хотя богатыми их трудно было назвать, и они в поисках пропитания и чтобы не умереть от голода всей семьей отправились сначала на Урал, потом в Тюмень. Таким образом семья уцелела.
Вернулись они на родину в 1928 году, так как заболела моя прапрабабушка, и прадед принял решение о возвращении.
В это время уже был другой алфавит. Сначала Декретом СНК Татарской АССР от 19 декабря 1920 г. было уточнено и упрощено употребление арабского письма в татарском языке: изъяты некоторые буквы и знаки, введены дополнительные буквы. Вот поэтому так трудно прочитать дореволюционное татарское письмо, даже если ты знаком с арабской графикой. В ноябре 1925 года Академцентр Наркомата просвещения ТАССР издал Постановление об обязательности нового письма во всех советских учреждениях и татарской печати. «Яна имля» использовалось в татарском языке до 1927 г., после чего был внедрен «Яналиф» на основе латинской графики.
Кампания по переводу национальных письменностей на латиницу проводилась с невиданным размахом. И хотя ее инициаторы были заинтересованы исключительно в политической составляющей реформы, к ее проведению удалось привлечь лучших лингвистов страны.
«Яналиф» (сокращение слов, которые на татарском значат «новый алфавит») вызывал искренний энтузиазм у молодежи, которая видела в нем символ модернизации (о реакции старшего поколения, конечно, можно только догадываться). В 1927 году латинская графика была введена в учебный процесс. В 1928 году в единый латинский алфавит были внесены некоторые изменения, после чего он был в официальном употреблении в течение двенадцати лет. В течение 12 лет активного использования латиницы также использовался арабский алфавит (как яна имля, так и иске имля). Например, одна Моабитская тетрадь татарского поэта-героя Мусы Джалиля была написана на яналифе, а другая — арабским письмом. Обе тетради были созданы в немецкой тюрьме после официального введения кириллицы. В период с 1923 г. до 1939 г. на латиницу было переведено 50 языков. Но наших соседей (удмуртов, марийцев, чувашей) почему-то этот процесс не коснулся.
Татары Турции, Финляндии, Чехии, Польши, США и Австралии используют татарскую латиницу в настоящее время. И опять ситуация повторяется: устное общение между нами на родном татарском возможно, письменное – затруднено.
С 1936 г. начинается новая кампания по переводу только что латинизированных языков на кириллицу. Кириллические алфавиты для них создавались ударными темпами, и единственная «филологическая» задача, которая решалась в ходе кампании – сделать алфавиты для близкородственных языков максимально непохожими друг на друга. Едва ли нужно напоминать, что реформа проводилась в атмосфере террора и сопровождалась физическим уничтожением национальной интеллигенции, ликвидацией всех следов национально-культурной автономии и насаждением русского языка. Говорить о каком-то положительном эмоциональном отношении к кириллическому алфавиту у народов, которые получили его из рук Сталина, было бы странно.
В 1938 году был представлен первый вариант татарского алфавита, основанного на кириллице, куда были добавлены буквы ә, ө, ү, җ, ң, һ. Их поместили в конце алфавита. Данный алфавит был введён в официальное употребление с 1939 года.
Хаммадов Кашаф Хамматович – Учитель с большой буквы. Он постоянно совершенствовался, много читал, повышал свой уровень, не останавливался на достигнутом. Мой прадед в течение своей жизни пережил 4 смены графики татарского письма, но я ни разу не видела даже в его личных бумагах, чтобы он смешивал буквы разных алфавитов. Это, на мой взгляд, признак высокой культуры.
Хаммадов Кашаф Хамматович и его жена Гимматбану Жаббаровна были примером не только для своих детей, внуков и правнуков, но и для своих учеников. Для многих поколений сельчан они до сих пор остаются образцом прекрасной семьи (прожили 60 лет вместе) и служения делу. Их деятельность оставила след в жизни многих людей. Они были не только учителями, но и занимались культмассовой работой: ставили спектакли и сами в них принимали участие, организовывали концерты.
Мои прадед и прабабушка родили и воспитали 7 детей, дали им прекрасное образование, помогли каждому выбрать свой путь в жизни. Они с честью выдержали все испытания, которые им уготовала жизнь и наше государство, и прожили достойную жизнь.
Языковая политика советского государства была направлена на разобщение людей (представители татарской диаспоры разных стран имеют разную письменность и графику), разрыв связи поколений (невозможность свободного чтения первоисточников, литературы, написанной за 60 лет до моего рождения, не говоря о более ранних источниках, письмах своих предков). Как обстоит дело с языковой политикой сегодня?
В 1997 году Постановлением Государственного совета РТ был закреплен иной порядок букв. На мой взгляд, более удобный. Но мои родители помнят старый. Им кажется удобным тот. Но это изменение как слону дробинка.
Вопрос о введении латинской графики в Татарстане был поднят уже в начале 90-х годов. Второй Всемирный конгресс татар, прошедший в Казани в 1997 году, рекомендовал республиканским властям принять закон о восстановлении татарского алфавита на основе латиницы.
Аргументы сторонников перевода татарского языка на латиницу (среди них — представители судебной и законодательной власти Татарстана):
1) латинская графика позволяет выразить специфические звуки татарского языка;
2) введение латиницы ускорит интеграцию татарской нации в мировое пространство, приблизит её к западной цивилизации.
15 сентября 1999 года Госсовет (парламент) Татарстана принял закон «О восстановлении татарского алфавита на основе латинской графики». Закон вступил в силу 1 сентября 2001 года.
Предполагалось, что переход с кириллицы на латинский алфавит будет проходить поэтапно в течение целого десятилетия. С осени 2000 года латиница применялась в ряде школ в виде эксперимента, в том числе и нашей. Уроки латинской графики были введены в начальную школу. Новый татарский алфавит условно назывался «Яналиф-2». Республикой была проделана огромная работа. На новом яналифе были напечатаны учебники и пособия, подготовлены специалисты.
Чтобы облегчить переход татар на латиницу, были изданы книги по татарской литературе, в которых первая часть произведения дана на привычной кириллице, а продолжение напечатано на латинице. В нашей школьной библиотеке их немало.
На уроках татарского языка и литературы мы знакомимся со всеми вариантами татарской письменности.
Федеральное собрание России, чтобы противодействовать переходу, в спешном порядке приняло Закон «О языках народов РФ», который установил, что графическая основа всех языков РФ – кириллица. В октябре 2004 года Конституционный суд Российской Федерации приступил к рассмотрению нескольких вопросов, касающихся статуса татарского языка.
16 ноября 2004 года Конституционный суд РФ признал право органа федеральной законодательной власти устанавливать графическую основу языков народов России, отклонив тем самым попытки властей Татарии перевести татарскую письменность с кириллицы на латиницу.
Конституционный суд отметил, что изменение графической основы допустимо, если оно «отвечает историко-культурным, социальным и политическим реалиям и интересам многонационального народа России». Но решение такого вопроса республикой в одностороннем порядке может привести «к ослаблению федеративного единства и ограничению прав и свобод граждан, в том числе проживающих за пределами данной республики, для которых данный язык является родным». (А за пределами государства? Или они не татары больше?)
Но поскольку в ряде школ республики проходит эксперимент по обучению на татарском языке с использованием латинской графики, результаты которого будут обобщены через несколько лет, то лет через пять-десять Татарстан будет добиваться принятия на федеральном уровне закона о возможности перевода татарской графики на латиницу.
По мере развития российского общества латиница в любом случае будет приобретать все большее значение – этот процесс связан с глобализацией и распространением английского языка. Но этот путь для нас пока закрыт.
Таким образом, насильственное изменение советским государством графики татарского языка негативно повлияло, на мой взгляд, на связь поколений внутри семьи. Языковая политика СССР затронула народ с древней историей и богатейшей литературой, уходящей корнями вглубь веков, и привела не только к нарушению связей внутри каждой отдельной семьи и народа в целом, но и затормозила развитие литературы, искусства и культуры нашего народа. Правительство РФ продолжает и сегодня диктовать свои требования относительно графики татарского языка, не учитывая интересов и потребностей народа.
Печатается с сокращениями
Как назвать кошку
Время от времени спрашивают, как я отношусь к употреблению ненормативной лексики и фразеологии в художественной литературе.
Всегда отвечаю примерно одно и то же. То есть приблизительно так: «Нормально, — говорю я, — отношусь. Точно так же, как и к любым прочим пластам нашего с вами родного языка. А если мне кажется, что это вполне оправдано поэтикой автора и его произведения и если в этом я не обнаруживаю наивной попытки компенсировать не самую первую свежесть исходного продукта обилием специй и пряностей, то даже и хорошо я к этому отношусь. А во всех прочих случаях — вполне нейтрально».
«Ну, а вот дети…» — не унимаются спрашивающие. «Если вам кажется, — отвечаю я, — что подростки, которые матерятся всегда, повсюду и по любому поводу, черпают свою лексику и фразеологию именно из художественной литературы, то боюсь, что вы слишком хорошо о них думаете».
Но это литература, это ладно — кто ее особенно читает…
В ситуации же повседневного социального поведения я на тот же вопрос могу ответить и отвечаю примерно так: «Плохо я к этому отношусь или нет, зависит не от того, ЧТО сказано, а исключительно от того, КЕМ сказано, по какому поводу и в каких конкретно социально-культурных или бытовых обстоятельствах. При детях, пожалуй, не надо. В присутствии людей, которых это шокирует и обижает, тоже не надо. А так…»
У меня буквально вянут уши, когда группа юных, уже упомянутых мною мальчиков и девочек подросткового возраста движется впереди меня и разговаривает, пользуясь исключительно этим самым языком, где из слов, так сказать, нормативных можно различить лишь слово «короче».
Беда ведь не в том, что они пользуются именно этим языком. Беда в том, что они не знают никакого другого. Поэтому нет в их речах ни смысла, ни живого чувства, а есть лишь какая-то мертвая гадость.
И это жаль, потому что в умелых руках этот язык бывает гибок, изощрен, чуток к тончайшим оттенкам значений и эмоций. А уж о поистине безграничных словообразовательных его возможностях можно говорить бесконечно.
Находясь в умелых руках, выдержавшие многовековые испытания слова и словосочетания этого языка в состоянии не только поразить подчас наше воображение поистине поэтической свежестью и новизной, но и наполнить речь подлинным и всякий раз новым содержанием.
Эти речевые конструкции принято третировать как «неприличные», но если их сопоставить с некоторыми конструкциями из навязываемой нынче официальной риторики, такими, например, как «духовные скрепы» или «традиционные ценности», то нетрудно заметить, что на таком фоне это «неприличие» выглядит как образчик благопристойности, осмысленности и даже некоторой респектабельности.
Этот самый язык во все времена был самым радикальным оппонентом и, если угодно, серьезным и, кстати, более чем успешным конкурентом официального языка, языка партийных и государственных институтов.
Не потому ли государство всегда столь же яростно, сколь и бесплодно вело и ведет изнурительную борьбу с этим языком, объявляя его врагом? И ведь не своим врагом, заметим. Врагом культуры, разумеется. Как будто у культуры не было большего врага, чем оно само, государство.
«Некультурно выражаешься, Вася! — говорил начальник домоуправления электрику Васе, когда электрик Вася по скверной своей привычке называл различные вещи или явления окружающей жизни своими именами. «Ты, Вася, — назидательно, а главное, исключительно культурно говорил управдом, — должен понимать, какие высокие задачи ставит перед нами, работниками коммунального хозяйства, наша родная партия и лично товарищ… Дальнейшее, Вася, повышение уровня и культуры обслуживания населения в общегосударственном, Вася, масштабе и на местах. Понял? Вот и выполняй! Я тебе щас дам „на х…“ Поговори у меня еще!»
Старинный спор о том, какой из этих двух языков имеет отношение к культуре, а какой — нет, продолжается и, увы, будет продолжаться и дальше.
А я, собственно, в очередной раз затеял этот вечный разговор лишь потому, что на днях наткнулся вот на это:
«Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые запрещают нецензурно ругаться даже у себя дома».
«У себя дома. У себя дома. У себя дома», — перечитал я три раза подряд и надолго задумался. Думаю, кстати, и теперь.
Дома, значит, теперь нельзя? Заратустра, как говорится, не позволяет и Богородица не велит? Но это бы еще ладно. Какая уж тут Богородица, если — бери выше — сама лично Государственная Дума решила запретить гражданам употребление внутрисемейных матюжков, во все времена служивших если не единственной, то уж точно самой надежной скрепой и одной из самых традиционных, овеянных веками семейных ценностей.
Ну, все, конечно, их послушаются, а как вы думали.
Дома нельзя, говорите? Поняли. Всё, прекращаем. Мы все-таки законопослушные граждане. Нам сказали, мы выполняем. Ну, может, не в полном объеме, но все же. Если еще чего вам захочется нам запретить «у себя дома», не надо стесняться: надо — значит, надо.
Дома нельзя, о’кей.
А в начальственных кабинетах? А на строительных площадках? А в ходе обсуждения сугубо профессиональных проблем между двумя малярами, один из которых по неосторожности вылил на другого полведра побелки? А в кабине автотранспортного средства, где водитель пытается скупыми, но выразительными языковыми средствами оценить интеллектуальный уровень другого водителя, внезапно затормозившего прямо перед его носом? А у двери винного магазина, при выходе из которой у одного из покупателей вываливается из дырявого пакета и разбивается вдребезги только что приобретенная бутылка вожделенной влаги? А в процессе дружеской беседы, когда вдруг настигает вас острая необходимость немедленно подобрать наиболее точную рифму для того, чтобы с ее помощью дать максимально ясный ответ на вопрос вашего собеседника «А где я это возьму?».
Со всем этим, как я понимаю, Государственная Дума уже справилась? Отлично, поздравляю! Теперь, значит, «у себя дома»? В семье то есть?
Все начинается с семьи, это правда. От своих родителей, например, я никогда не слышал ничего такого. Лишь однажды я слышал, как отец на подмосковной платформе ставил на место пьяного приставалу. Я был страшно удивлен, признаться. Мне до этого даже не приходило в голову, что мой отец может знать такие слова и выражения. А ни до этого, ни после этого я ничего такого не слышал, правда.
Но то родители. А двор? А старшие товарищи? А старший брат, наконец? А товарищи старшего брата, среди которых я крутился постоянно? Они-то все на что? Лет примерно с шести безо всякой особенной роли семьи и школы я владел этим несметным богатством и с чисто королевской щедростью виртуознейшим образом делился им с городом и миром. Кроме мамы с папой, разумеется.
Но все же! «У себя дома» — это как? То есть как это примерно должно происходить? Принять закон можно, почему не принять. А вот как быть с так называемым правоприменением?
Это как будет? Если, конечно, оно действительно будет, что вряд ли.
Соседи, что ли? Или, пуще того, предполагается, что один член семьи пойдет и стукнет на другого?
Всякое, конечно, бывает. Не зря же несколько поколений детей и юношества воспитывали на примере соответствующего подвига Павлика Морозова.
Придет, допустим, такой куда надо и скажет: «Хотите скажу, куда мама послала папу? А на мороженое дадите? А на жвачку?»
Или представьте себе такое, например, заявление: «В процессе оживленного обсуждения планов приобретения новой кровати, в котором участвовали мой супруг, Сундуков Валерий Витальевич, и я, Сундукова Валентина Васильевна, моим супругом, Сундуковым Валерием Витальевичем, 3 (три) раза, в различных ситуациях и контекстах, было вслух произнесено запрещенное к употреблению (т.е. обсценное) имя существительное, означающее мужской половой орган, и 4 (четыре) раза — запрещенный (обсценный) глагол, означающий интимную половую связь».
У кого-то я вычитал, что настоящий интеллигент — это тот, кто, споткнувшись в темноте о кошку, назовет кошку кошкой. Это остроумно и афористично, но, по-моему, начисто лишено эмпирической основы. Лично я такого интеллигента на жизненном пути не встречал.
Уж не знаю, интеллигент ли я сам, или — что скорее всего — нет, но я-то уж точно не назову в подобных обстоятельства кошку кошкой. Я-то уж точно выскажусь по поводу такого события в тех словах и выражениях, которые только и могут быть адекватны текущему моменту. Особенно «у себя дома». Да и вообще.
Лето с Цоем
Фильм Кирилла Серебреникова «Лето» приглашен к участию в конкурсе Каннского кинофестиваля. Это новость, которую можно разворачивать, как капустный кочан. Каждый лист — новый поворот сюжета.
В Канн получить приглашение не просто. Только дилетанты и ведущие федеральных телеканалов уверены, что достаточно просто снять кино о том, как у нас все плохо, — и ключик у вас в кармане. На самом деле единственный главный приз российская картина в Канне получила в 1958 году — после смерти Сталина и разоблачения культа личности — в картине «Летят журавли» жюри оценило гуманистический и антивоенный пафос, особенно радующий европейцев после многих лет воинственных фильмов про то, как танки наши быстры.
С тех пор Канн старательно выбирает лучшее из отечественного кино, и хотя ни Тарковский, ни Михалков, ни Герман, ни Сокуров, ни Кончаловский, ни Звягинцев, ни Лунгин, не раз участвовавшие в конкурсе и получавшие призы, так и не стали обладателями высшей награды, этот список, конечно, очень почетен. Кирилл Серебрянников впервые оказался в Канне со своим четвертым фильмом, его «Ученик» был в «Особом взгляде», второй по значимости программе, и получил премию Франсуа Шале, журналиста и хроникера, вручаемую за реальность и современность. Так что включение фильма Серебренникова в этом году в основной конкурс вполне может считаться признанием мастерства российского режиссера и ростом его международной славы. Кстати, тема фильма — несколько месяцев из жизни звезды русского рока Виктора Цоя и его старшего товарища Майка Науменко — значения в этом случае не имеют, так как для зарубежной публики эти имена, столь важные сердцу российских поклонников, значат мало, если вообще знакомы.
А вот то, что Кирилл Серебреников сейчас находится под арестом, значит много.
Скоро год как он не имеет возможности работать, за это время состоялась премьера поставленного им в Большом театре балета «Нуреев», доделан фильм «Лето», со съемок которого его и увезли в Москву для помещения под стражу. И балет, и фильм были им практически доделаны, но выпускать их пришлось без автора.
Друзья и коллеги Серебреникова считают, что обвинения в хищении государственных средств, выделенных на создание театрального центра «Платформа», не обоснованы, и пока обвинение не доказано, оставлять режиссера и его товарищей под арестом несправедливо. Под просьбой изменить меру пресечения и оставить возможность работать в театре и доснять фильм подписались многие известные деятели культуры и институции: Совет Европейской киноакадемии, Берлинский международный кинофестиваль, режиссер Федор Бондарчук, телеведущий Андрей Малахов, писатель Людмила Улицкая, гендиректор Большого театра Владимир Урин, певец Филипп Киркоров, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, режиссер Павел Лунгин, председатель комиссии по гражданским правам Совета по правам человека при президенте России Николай Сванидзе, руководство Штутгартской оперы и многие другие, но к ним не прислушались. Серебренников и его товарищи продолжают ждать суда под арестом. Это принуждает часть общества объяснять столь жесткий подход к делу, по которому доказательств так и не предъявлено, идеологическими, а не экономическими обстоятельствами.
Западные интеллектуалы и художники, к которым принадлежат и устроители Каннского фестиваля, традиционно считают делом своей чести выступать на стороне тех, кто попадает под определение жертв системы, защищая право искусства на инакомыслие, диссидентство, сопротивление силе.
Тем более во Франции, где принято всячески способствовать максимальному утверждению справедливости в отношении тех, «кто оказался проигравшим и побежденным».
Достаточно вспомнить историю иранского кинорежиссера Джафара Панахи (его новый фильм, кстати, тоже в конкурсе), в 2009 году осужденного на шесть лет заключения и на 20 лет запрета на профессию. Панахи являлся сторонником иранской оппозиции, оспаривающей итоги президентских выборов, его арестовали вместе с 250 участниками демонстраций (одиннадцать человек были приговорены к смертной казни за организацию протеста, но кинорежиссера судили за пропаганду). Благодаря активному вмешательству как иранских коллег, так и американских и европейских кинематографистов Панахи перевели под домашний арест, а потом разрешили передвигаться по стране, но выехать за границу он до сих пор не может. Фильмы, которые он снимает подпольно, неизменно включают в конкурсы основным европейских фестивалей, а его самого в 2010 году пригласили в жюри Канн — приехать он не смог, но предназначенное ему кресло в зале оставалось свободным на протяжении всего фестиваля.
Так что — да, конечно, можно считать, что включением фильма в программу Каннский фестиваль совершает жест поддержки российскому режиссеру.
При этом сам фильм, который практически никто пока не видел, уже вызвал скандал на родине, как у нас, впрочем, случается слишком часто. Скандал разразился в среде поклонников рок-музыкантов, узнавших о факте съемок фильма про Цоя. Дело в том, что сценарий фильма, написанный сценаристом Михаилом Идовым и его женой (Идов, возглавлявший русскую версию журнала GQ, был автором сценарной основы фильмов «Духлесс», сериала «Оптимисты», «Лондонград» и др.), оставался коммерческой тайной, он не опубликован. Но один малоизвестный театральный деятель сообщил, что его знакомая работает в съемочной группе, от нее он узнал, что Цой в фильме изображен гомосексуалистом. Эту ложь моментально распространили СМИ.
Сценарий дали прочесть Борису Гребенщикову, возможно, рассчитывая на его поддержку, но ему решительно не понравилось, о чем он заявил, по крайней мере, в сдержанной форме:
«Сценарий — ложь от начала до конца. Мы жили по-другому. В его сценарии московские хипстеры, которые кроме как ….ться за чужой счет, больше ничего не умеют. Сценарий писал человек с другой планеты. Мне кажется, в те времена сценарист бы работал в КГБ. Надеюсь, Кирилла Серебренникова освободят, но мнения о фильме у нас разные».
Фильма тогда еще не было, но мнение уже сложилось.
Умение российской интеллигенции объединять усилия для защиты общих ценностей потрясает. Другой товарищ Цоя, сооснователь группы «Кино» Алексей Рыбин, тоже не видев картины, сообщил, что «его представления о морали расходятся с представлениями авторов фильма». Рыбин, ставший писателем и снимающий кино, впрочем, уже сочинил свой сценарий фильма о Викторе и прошлым летом даже символически начал съемки в день рождения Цоя. Свой замысел он объяснил так: «Там и меня мало, хотя в то время мы были как сиамские близнецы, но есть законы драматургии — нельзя объять необъятное, если фильм снимаешь про героя. Наша картина — это путь, путь воина, хотя и в ленинградских хрущевках и сталинках».
То, что чужая интерпретация истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя, которая «разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок», никаким образом не устраивает бывших рокеров, которые, впрочем, фильм не видели, можно было бы объяснить и разницей поколений, и желанием героизировать собственное прошлое, и стремлением видеть в рок-движении не музыкальное движение, а «путь воина», но главное тут другое — осуждение не реально увиденного, а самого намерения, интенции.
Надо сказать, что недавний хит российского кино «Движение вверх» вызвал у родственников спортменов реакцию не менее болезненную, вплоть до суда и перемены фамилии главного героя, — это не то, чтобы нормально, но, увы, обычное дело.
Но, в отличие от жен баскетболистов, рокеры более эмоциональны и категоричны. Андрей Тропилло, музыкальный продюсер, в самодеятельной студии которого в 80-е Цой записал свои песни, рубит наотмашь, основываясь исключительно на мимолетных наблюдениях и слухах (ни фильма не видел, ни сценария не читал): «Я перемолвился парой словечек с Кириллом Серебренниковым. Это человек совершенно чуждый сфере культуры, ничего о ней не знающий, абсолютно серый и темный. Товарищ Серебренников взялся за тему, которую совершенно не знает, Цой изображается педорастом, мою студию они показали как какое-то убожество, электроника — где раздобыли такое дерьмо? Это позорище. Если в результате всех неприятностей он прекратит снимать фильм, это будет главным подарком. Я это говорю как… я называю себя живым Богом… — Не будешь снимать, бросишь эту гадость, будешь на свободе, понял? А не бросишь — сидеть тебе».
Впрочем, столь же недоволен Тропилло и старым фильмом «Рок» Алексея Учителя, где рокеры, по его мнению, изображены наркоманами и хулиганами, в то время как он считает их высокообразованными людьми, соединяющими нашу культуру с мировой традицией.
Все эти сентенции можно было бы оставить на совести авторов, но проблема в том, что сегодня уверенность в своей правоте моментально переходит в агрессию, проклятия, оскорбления, подхватывается не молчащим уже большинством, давит и угрожает.
Появление фильма «Лето» в конкурсе Канн не успокоит, а только разбередит удаль бывших ударников перестройки, Цой для них больше чем музыкант, больше чем человек, если уж сами себя они называют богами. Хотя было бы куда полезней, чем бороться за собственный образ героя, попытаться посмотреть на мир с другой точки зрения. В переменах по прежнему нуждаются наши глаза, в перспективах и в дистанции по отношению к своему прошлому.
Неужели когда-нибудь к музыке, театру и к кино в нашей стране станут относиться с эстетической заинтересованностью, а песни или фильмы воспринимать не как подвиг воина, а как добросовестную, профессиональную работу? Как, например, некий американский любитель музыки, вспоминающий о купленной им по случаю пластинке «Последний герой»: «Рок на русском языке часто звучит однообразно, но в данном случае я хочу сказать, что перед нами добротный альбом с несколькими реально хорошими рок-песнями». Или китаец, послушавший «Группу крови»: «интересная характеристика у этого альбома — противоречие между угрюмым, тоскующим вокалистом и куда более бодрой ритм-секцией. Такой контраст срабатывает не всегда, но когда срабатывает (а это в большинстве случаев именно так), то получаете очень красиво».
Но для этого нужно, чтобы авторы оставались на свободе. Иначе так и будем рвать жилы друг другу, потому что агрессия и злость — это эмоции несвободного и безответственного общества.
Я татарский бы выучил?…
Автор: Алсу Хаммадова. На момент написания работы ученица 10 класса гимназии №5 г. Зеленодольска, Республика Татарстан. Научный руководитель Резеда Шамилевна Багавиева. 3-я премия 19 Всероссийского конкурса «Человек в истории. Россия – ХХ век», Международный Мемориал.
Языковая ситуация в Татарстане в последнее время сильно обострилась. Страсти не утихают, споры продолжаются, изучение татарского языка перестало быть обязательным с октября 2017 года. Плохо это или хорошо, трудно сказать, но попытаюсь выразить свою точку зрения по данному вопросу.
Предыдущая моя работа была посвящена истории татарской письменности. На примере моей семьи, в большей степени – моего прадеда Хаммадова Кашафа Хаммадовича я постаралась показать, как языковые реформы, проводимые советским государством, отразились на нашем народе, нарушив вековую связь между поколениями.
ХХ век, а точнее, первая его половина, с многократной сменой письменности и татарского алфавита (арабская графика – новая арабская графика – латиница – кириллица) стал не самым лучшим периодом в истории моего народа.
Я учусь в татарской гимназии и изучаю как русскую литературу, так и родную. Но если русскую литературу мы начинаем изучать со «Слова о полку Игореве» (ХII в.), а потом перескакиваем на ХVIII (несколько произведений), и лишь ХIХ и ХХ в. представлены в школьном курсе, на мой взгляд, полно и объемно, то родную татарскую литературу мы изучаем с VII – VIII в. и достаточно подробно. Наша литература невероятно богата, она древняя, имеет большую историю. Но вот парадокс: читая древнерусский текст, я могу почувствовать «музыку» и «вкус» «Слова о полку Игореве». Да, безусловно, я далеко не всё там пойму и потребуется перевод, но «прочувствовать» красоту слова и образов могу. С моей родной литературой так не получится: я смогу прочитать лишь то, что ученые перенесли на привычную для нас кириллицу. А чтобы прочитать произведения в оригинале (даже ХIX и начала ХХ в.), потребуются годы учения и труда.
Наша гимназия №5 с татарским языком обучения открылась в 1991 году в одном из корпусов школы-интерната. Она начиналась с 8 учителей и 63 учеников. Сейчас здесь работает 42 учителя и обучается 448 учеников в двух корпусах прекрасного, хоть и старого здания в центре города. В 2016 году школа вошла в 100 лучших школ Республики Татарстан. А как тяжело и непросто все начиналось!
Инициатором создания в городе Зеленодольске национальной школы стал Хусаинов Александр Григорьевич. Оказывается, как много может сделать один человек! Именно он, несмотря на огромные сложности, сумел доказать необходимость возрождения татарского языка и культуры, формирования татарской интеллигенции. И это в городе с преобладающим русским населением (Национальный состав: русские (51,4%), татары — (43,5%)!). Город был (и есть) в основном русскоязычный. Многие городские татары (особенно те, кто родился в городе) уже не знали своего языка. Справедливости ради следует сказать, что и сам Александр Григорьевич, оказавшийся Александром Галинуровичем, языка не знал. Но в отличие от многих других, он не считал это правильным и активно взялся за воплощение своей идеи. Собрав группу единомышленников, обратился в администрацию города. И не сразу, но был услышан. Благодаря его усилиям в городе открылись две татарские школы: гимназия №5 в городе и школа № 16 в микрорайоне Мирный, два детских сада, татарские группы в других детских садах. А в 1995 году – татарская газета «ЯшелҮзән» («Зеленый Дол»). Кстати, сегодня редактором этой газеты является выпускница нашей гимназии 2000 года, золотая медалистка Завилейская (Гисматуллина) Ильсия Мансуровна.
Я заинтересовалась личностью Хусаинова Александра Галинуровича, который удивил меня тем, что при жизни сумел воплотить самые дерзкие свои мечты. Мечты не о богатстве, путешествиях, особняках. Не о славе и привилегиях. А о татарском языке (хотя всю жизнь преподавал русский и литературу!) и судьбе своего народа.
И даже после смерти его дело живет, а некоторые замыслы продолжают осуществляться. Кто он – человек, в одиночку свернувший горы? Как ни странно, но в гимназии я получила отрывочную информацию. Все его помнят, чтут, но уже мало кто может о нем рассказать. К счастью, жива его вдова- замечательный и уважаемый в городе врач – гинеколог Лобанова Светлана Гумеровна (так называют её пациенты). Ей недавно исполнилось 80 лет, но она только год не работает. Но без дела не сидит. Это очень светлый, жизнерадостный, активный человек. Светлана Гумеровна оказалась Залиной Гумеровной и была очень приветлива. Вот что я от неё узнала.
Хусаинов Александр Галинурович родился 13 ноября 1932 года в городе Мичуринске Тамбовской области, где его родители после окончания сельхозинститута работали на селекционной станции ‒ питомнике под руководством известного ученого И.В. Мичурина. Семья была татарская. С одним НО. Мама ‒ крещеная татарка. Для сведения: Кря́шены (тат. керәшеннәрот рус. крещён; крещёные тата́ры, тат. керәшентатарлар, keräşentatarlar) ‒ этноконфессиональная группа в составе татар волжского и уральского регионов. Исповедуют православие, проживают, в основном, в Татарстане, в небольшом количестве в Башкортостане, Удмуртии, Челябинской области, а также Самарской и Кировской областях. В настоящее время нет единого мнения о статусе кряшен: официальная наука преимущественно рассматривает их как часть татарского народа; в то же время заметная часть кряшен считает себя отдельным народом. У кряшен в процессе обособления сформировался ряд собственных говоров. Папа – Хусаинов Галинур Тимерханович, мама – Подьячева Варвара Владимировна (фамилию в браке она не меняла).
Татарский язык она знала и говорила на нем. Сына папа назвал Али. Мама именовала Аликом. В документе написали – Александр.
Отца Али- Алика призвали на военную службу. Семье пришлось много колесить по стране и жить в разных районах и городах. Теперь меня уже не удивляет, почему мальчик забыл язык. Папы часто не было дома. Языковая среда русскоязычная. Мама говорила с сыном по-русски.
Отец дослужился до звания подполковника. Семья обосновалась в Казани.
Александр поступает в Казанский педагогический институт. После его окончания работает учителем в школах Теньковского и Бавлинского районов ТАССР. Затем их семья переезжает в наш Зеленодольск (40 км. от Казани). В 1963 году здесь открывалось медицинское училище. Туда он и пошел работать и проработал 26 лет – до 1990 года.
Учителем он был увлеченным, хотя и строгим. Ученики в нем души не чаяли.
Он принимал активнейшее участие в жизни училища, возглавлял редколлегию училищной газеты «Медик», которая постоянно занимала призовые места на смотре стенгазет средних учебных заведений республики. И немудрено! Он был невероятно творческим человеком: профессионально занимался фотографированием, прекрасно играл на аккордеоне, гармони, фортепиано! А какой у него был кабинет!
Стенды сделаны Александром Галинуровичем. Материал тщательно подобран им же. И уже по ним можно понять, что заботило и интересовало учителя, что стало буквально смыслом его жизни!
По воспоминаниям его жены, Александр Галинурович был человеком удивительной эрудиции и отличался пунктуальностью и стремлением к точности. После него информацию можно было не перепроверять!
Александр Галинурович одним из первых учителей в городе овладел техническими средствами обучения ‒ ТСО. Прекрасно владел киноаппаратом. Многократно награждался Почетными грамотами республики. Ему присвоено звание «Отличник народного просвещения». Он был активным членом совета городского народного музея. Эрудированный, с глубоким знанием предмета, он обладал даром убеждать. Этот дар ему пригодился, когда он решил возрождать национальное образование и культуру в своем городе.
После открытия гимназии он стал здесь постоянным гостем. Не свадебным генералом, а неофициальным членом коллектива. Материалами по краеведению он щедро делился с учителями истории и литературы. Но у него было еще одно дело жизни. Он собирал материалы о татарах – Героях Советского Союза. Списывался с оставшимися в живых, с родственниками погибших. Выяснял подробности биографии. Собирал артефакты. И открыл в нашей гимназии музей. Единственный в республике. Гостей из разных городов сейчас здесь принимают ученики. Они ведут экскурсии как для школьников, так и для взрослых посетителей.
Музей пополняется материалами, подаренными членами “Снежного десанта” (поискового отряда Казанского университета) и воинами-афганцами.
В 1999 году над гимназией нависла угроза закрытия. Здание из двух корпусов в центре города и земля вокруг понадобились власть имущим. И тогда вновь в бой ринулся Александр Галинурович, обивая пороги властьпредержащих. Самым убедительным доводом оказались для нового Главы администрации его слова, что народ запомнит прежнего руководителя тем, что тот подарил городу национальную гимназию, а этот – тем, что её закрыл. Говорил резко. Но твердо. Убеждать он умел. Да и родители учеников встали на защиту учебного заведения, призвав на помощь СМИ. Гимназию удалось отстоять. И здесь мы с удовольствием учимся. На своем родном языке. Как и мечтал Александр Галинурович.
Всю свою жизнь Александр Галинурович посвятил своему народу. Дело его живет. Следуя его примеру, в нашей гимназии открыли Музей члена Союза писателей Республики Татарстан и бывшего преподавателя гимназии Азата Вергазова, Музей-выставку художника и скульптора, преподавателя нашей гимназии В. Ш. Шарафутдинова, этнографический музей.
Александра Галинуровича Хусаинова не стало в 2009 году.
Учитель – не обязательно тот, кто в школе. В первую очередь, это твои родители. И не в последнюю – твои предки. Учителем может стать любой человек, который научил тебя самому главному – жизни. В нашей семье трое детей. Я старшая. Мы все прекрасно владеем как русским, так и татарским языком. Хотя до того как я пошла в школу, русского не знала совсем. Таким образом мои родители создавали языковую среду. Они понимали и помогли понять мне важность знания родного языка.
В нашем роду немало учителей. Мой прадед – Хаммадов Кашаф ‒ всю свою жизнь проработал простым учителем. Он родился в семье муллы в 1892 году в многодетной семье, учился в медресе (аналог церковно-приходской) в родной деревне, в 1904 году поехал в Казань продолжить своё образование в медресе «Халидия» при Четвёртой соборной («Голубой») мечети. Свою деятельность в качестве учителя он начал в год окончания медресе – в 1910 году в том же медресе «Халидия». Закончил педагогическую деятельность в 1955 году. Русский язык мой прапрадед освоил самостоятельно, беря частные уроки, и впоследствии мог преподавать на двух языках одинаково хорошо.
Так что профессия учителя, можно сказать, для Хаммадовых ‒ династийная.
Старшая дочь Хаммадова Кашафа Хамматовича и его жены Гимматбану Жаббаровны, Тазкия Хаммадова, моя тетя, пошла по стопам своих родителей и продолжила учительскую династию, посвятив призванию всю свою долгую жизнь и проработав в сфере образования 40 лет. Она была учителем начальных классов, вела русский язык и татарский язык, русскую литературу и татарскую литературу. Тазкия Кашафовна активно участвовала в культмассовых мероприятиях: ставила концерты, спектакли, постановки в домах культуры, клубах, кинотератрах, школах
Её родные братья, Виль и Рим, – тоже стали учителями. Виль Кашафович был доктором наук и преподавал в Казанском авиационном институте. Сфера деятельности Рима Кашафовича – армия. Их двоюродный брат Анас Мисбахович преподавал в школе физику и математику как на русском, так и на татарском языке, одна его дочь Роза Анасовна – преподаватель английского языка в университете, другая — Гульсинур Анасовна – учитель татарского языка в школе.
Благодаря моим родственникам я поняла важность семьи, ценность знаний, в том числе и родного языка, умения уважать людей труда. Я понимаю, что знание дополнительного языка не бывает лишним.
В нашем классе учится 21 человек. С разной степенью знания родного языка. Двое – не знают его вообще. Они перевелись к нам из другой школы. Обычно если к нам приходят без знания русского языка в младших или 5-6 классах, то к старшим они успевают его выучить. Понятно, что за год только школе без помощи семьи это сделать сложно.
В этом учебном году решением прокуратуры отменили обязательно изучение татарского языка во всех школах. Даже в нашей. Он может изучаться только на добровольной основе. У нас высказались «за» все, даже те, кто плохо им владеет или не владеет совсем. Оно и понятно: знали, куда шли. В других школах многие вздохнули с облегчением: наконец-то! А я задумалась. А как же известная мудрость: «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек?»
На курсах в КФУ преподаватель рассказал нам, слушателям, о своем коллеге, который, услышав, что во Франции находится последний убых очень преклонных лет, взял на работе отпуск на 1 год и поехал изучать этот удивительный язык.
Что имеем – не храним, потерявши – плачем? Исчезающих животных заносят в Красную книгу. Может, что-то подобное изобрести и для языка? Хотя понятно же, что его судьба в наших руках. И если мы хотим сохранить свой язык, культуру, менталитет, то нужно, в первую очередь, каждому человеку начинать с себя. Так же, как мы бережем свое физическое здоровье, следует оберегать и свою душу, язык, сохраняя преемственность поколений.
Печатается с сокращениями
История отношений писателя со словом
Натали Азуле. Тит Беренику не любил. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2017. Перевод Н. Мавлевич
Жизнеописания писателей редко бывают интересны по-настоящему, вероятно, потому, что писатель — профессия преимущественно одинокая, и, как следствие, не слишком красочная и эффектная, редко сопряженная с головокружительными приключениями. Биография великого французского драматурга XVII века Жана Расина при поверхностном взгляде тоже не изобилует событиями — и поэтому не кажется хорошей сюжетной основой для романа. Сирота из буржуазной семьи, вырос в монастыре еретиков-янсенистов в окрестностях Версаля, позднее порвал все связи со своими суровыми наставниками, уехал в Париж, начал писать трагедии, добился успеха при дворе, влюблялся в актрис, после ушел из театра, стал королевским историографом, женился, нарожал детей, состарился, умер.
Однако Натали Азуле ухитряется рассказать эту заурядную, в общем, историю так, что небольшой роман превращается в настоящую сокровищницу мыслей и цитат, в почти бесконечный лабиринт сюжетов, лиц, голосов и точных наблюдений. Для того чтобы достичь этого эффекта, Азуле использует всего два приема.
Во-первых, она окружает биографию драматурга изящной рамкой — рассказом о безымянной современной героине, которая, болезненно переживая разрыв с любовником, ищет утешения сначала в трагедиях Расина, а после в его биографии. Этот тонкий лирический контрапункт сообщает книге о давно умершем и, прямо скажем, не самом актуальном для российского читателя авторе необходимую ноту персональности, оттенок неформального и начисто лишенного почтительной отстраненности интереса.
А во-вторых (и это, конечно, гораздо важнее), Азуле рассказывает историю жизни Расина тем единственным способом, который делает ее осмысленной и жгуче интересной, — как историю отношений писателя со словом, с литературой, с драмой и ее героями.
Сказанное вовсе не означает, что «Тит Беренику не любил» — филологический роман, предназначенный исключительно для читателя-интеллектуала. Совсем нет. При таком литературоцентричном ракурсе вся жизнь Расина предстает одним мучительным, волнующим приключением, многолетним экспериментом над собой и попыткой вместить в себя и выразить словами одновременно и женскую, и мужскую природу (современники много ругали драматурга за то, что в центре его трагедий всегда находится охваченная «нездоровой» страстью женщина). Каждый — даже самый незначительный — факт расиновской биографии оказывается тесно переплетен с его творчеством, из него вырастает и его же подпитывает, и тем самым обретает смысл, вес и объем.
Слово как страсть, слово как порок и предательство, слово как наслаждение. А отказ от слова — как высшая мера смирения и благочестивого самоотречения: в конце жизни Расин возвращается к суровым аскетическим идеалам своей юности. В исполнении Азуле рассказ о мистических связях, соединяющих автора и его текст, превращается в высказывание удивительной выразительности, красоты и силы.
Кристофер Раш. Завещание Шекспира. СПб.: Пальмира, 2018. Перевод А. Куркиной-Раш
В отличие от Жана Расина, судьба которого неплохо задокументирована, его старший современник Уильям Шекспир — настоящая находка для биографа, не склонного слишком изнурять себя прозаической фактологией: информации о его жизни сохранилось настолько мало, что любой вымысел имеет право на существование. Этой практически полной свободой пользуется британец Кристофер Раш — надо признать, не без изящества.
В переводе заглавие романа утратило заложенную в него автором словесную игру: на английском книга называется «Will» — одновременно имя главного героя и «завещание». В самом деле, весь роман — это длинный предсмертный монолог Шекспира, который он произносит перед нотариусом, пришедшим составить завещание. Нотариус ест, пьет и время от времени задает наводящие вопросы, пытаясь все-таки выяснить у поэта, что же из своего имущества он хотел бы оставить друзьям и близким. Однако вместо этого Шекспир рассказывает ему всю свою жизнь в мельчайших подробностях, от детских страхов до горечи от потери собственного ребенка, от холода несчастливого брака до жара поэтического вдохновения. Формальное завещание оказывается одновременно и цветистой автобиографией, и духовным автопортретом.
Взявшись за подобный проект, Кристофер Раш, понятное дело, серьезно рисковал: количество книг, художественных, документальных, провокативных, консервативных, традиционных и революционных, написанных о Шекспире за последние триста лет, так велико, что опасность вторичности на этой истоптанной почве велика как нигде. Однако Рашу удалось придумать недурной ход: весь его роман — это, по сути дела, большой центон, то есть текст, составленный из прямых и косвенных шекспировских цитат, парафраз, отсылок и ловких подражаний.
Таким образом, герой «Завещания Шекспира» рассказывает о себе практически шекспировскими словами, что придает книге Раша — такой же фантастичной и недостоверной, как любая другая художественная биография человека, о котором практически ничего не известно, — если не обаяние подлинности, то, во всяком случае, известный стилистический шарм. Ну и, конечно, нельзя не восхититься героизмом переводчика, сумевшего из нескольких десятков переводов шекспировских сонетов и драм собрать вполне рабочий русский аналог этой сложной и затейливой конструкции.
Может ли дарвинист верить в бога?
Согласно распространенному мнению, хотя собственно в строгих формулировках теории эволюции не содержится никаких упоминаний о боге, вере, священном писании и т. п. предметах, сам дух этой теории явно враждебен религии. Уже сама идея эволюции, т. е. постепенного развития одних живых форм из других в течение длительного времени противоречит библейскому рассказу, согласно которому все живые существа были непосредственно сотворены богом-вседержителем в течение считанных дней. А уж идея естественного отбора случайных наследственных изменений как основного механизма эволюции и вовсе не оставляет места для проявления божественной воли. Люди постарше, успевшие закончить среднюю школу еще в советские времена, пожалуй, припомнят, что им на уроках так и говорили: теория Дарвина, мол, лишний раз опровергает наивные религиозные сказки.
Что интересно, в этом пункте сходятся носители противоположных взглядов, не согласные друг с другом больше ни в чем: воинствующие атеисты и религиозные фундаменталисты. Те и другие полагают, что дарвиновская модель эволюции несовместима с верой в бога, только одни считают это доводом против веры, а другие – против теории Дарвина (а то и против идеи эволюции вообще). Но так ли это на самом деле?
Что касается рассказа о сотворении мира, приводимого в книге Бытия, то если понимать его буквально, противоречащим ему окажется не только эволюционная теория, а едва ли не все современное естествознание; по крайней мере – все его разделы, изучающие «объекты с историей»: космология, планетология, геология и т. д. Все эти дисциплины располагают огромным массивом фактов (причем очень хорошо согласующихся друг с другом), однозначно свидетельствующих о глубокой древности нашего мира и о том, что за время своего существования и весь он, и некоторые особенно интересующие нас его части (Солнечная система, Земля) претерпевали очень большие изменения – иногда медленные, иногда быстрые. И хотя нанести основные вехи этих изменений на абсолютную временнỳю шкалу оказалось возможным только в ХХ веке, коллизия между буквальным пониманием Библии и естествознанием обозначилась практически с момента возникновения последнего. «И Коперник ведь отчасти разошелся с Моисеем», – писал (между прочим, как раз в защиту дарвинизма) полтораста лет назад остроумнейший русский поэт и убежденный христианин Алексей Константинович Толстой. Так что тому, кто настаивает на буквальном понимании библейского текста, придется отринуть не только эволюционную теорию, но и вообще все естествознание. Правда, как утверждают знатоки, даже и столь радикальный шаг не спасает: буквалистская интерпретация противоречит не только науке, но местами – и сама себе. Впрочем, автор этих строк не считает себя достаточно сведущим в вопросах богословия, чтобы всерьез обсуждать эту тему.
Что же касается вопроса, исключает ли дарвиновская модель эволюции божественный промысел, то…
Давайте немного отвлечемся от серьезной науки и чуть-чуть поиграем в детектив. Представим себе такой сюжет: некто Смит найден мертвым в своем доме, причем смерть его была явно насильственной. Подозрение падает на некоего Брауна – он имел веские основания желать смерти Смита и вообще не отличается уважением к закону. Браун клянется, что весь роковой вечер не выходил из дома, но подтвердить этого никто не может. И тут в полицию является некто Джонс – знакомый Смита и Брауна, вроде бы не имеющий никакого собственного интереса в этой истории – и заявляет, что видел Брауна возле дома Смита в тот самый вечер и даже примерно в тот час, когда, по заключению судмедэксперта, мистер Смит расстался с жизнью. Брауна, разумеется, тут же арестовывают и предают суду. Но Великий Детектив… Кого бы нам выбрать на эту роль? Пусть это будет Перри Мейсон – герой Эрла Стенли Гарднера и один из немногих адвокатов среди литературных великих сыщиков. Так вот, защищать Брауна берется Перри Мейсон. И в кульминационный момент процесса вызывает на свидетельское место некого доктора Купера, который показывает под присягой, что весь тот вечер его давний пациент мистер Джонс просидел у него на приеме, на другом конце города от дома Смита – что может подтвердить медсестра мисс Доу, а также записи в журнале приема. Помявшись немного, доктор сообщает также, что вообще-то мистер Джонс страдает куриной слепотой и при том освещении, которое было на улице в час убийства, вряд ли мог бы отличить обвиняемого от любого из присутствующих в зале суда, включая дам. Прокурор бледнеет, зал гудит, судья стучит молоточком, присяжные единогласно выносят оправдательный вердикт. Все кидаются поздравлять Брауна и его чудо-адвоката, столь убедительно доказавшего невиновность своего подзащитного.
Но действительно ли невиновность Брауна доказана?
Нет. Доказана лишь несостоятельность свидетельства, на котором полиция и прокурор опрометчиво построили обвинение. Доказано не то, что Браун не убивал, а только то, что слова Джонса – не доказательство. Браун вполне может быть убийцей Смита. Но даже если он сам признается в убийстве, показания Джонса все равно останутся тем, чем их выставили в суде Перри Мейсон и доктор Купер, – то ли злонамеренным враньем, то ли результатом самовнушения.
Какое все это имеет отношение к вопросу о боге и теории Дарвина?
Самое прямое. Точно так же предложенный Дарвином механизм эволюции не доказывает отсутствия бога, но полностью опровергает одно из самых популярных «доказательств» его существования – так называемый «аргумент часовщика». (Это название восходит к книге английского богослова Уильяма Пэйли «Естественная теология», вышедшей в 1802 году, но сам аргумент известен еще с глубокого средневековья; немало людей, размышлявших над происхождением живых форм, сформулировали его самостоятельно, ничего не зная о книге Пэйли.) Суть его состоит в том, что части тела любого живого существа и протекающие в нем физиологические процессы поразительно тонко и точно «подогнаны» друг к другу, а весь организм – к условиям своего обитания и к тому образу жизни, который он ведет. Невозможно представить, чтобы столь тонкая и точная настройка – своя для каждого из миллионов ныне живущих видов – возникла случайно, в результате не направленных ни к какой цели физико-химических процессов. Следовательно (по мнению преподобного Пэйли и его бесчисленных единомышленников) это неопровержимо свидетельствует о существовании некого разумного начала, создавшего и устроившего мир живых существ столь совершенным образом – «там, где есть часы, должен существовать и часовщик, который их сделал».
Надо сказать, что еще до выхода «Происхождения видов» и утверждения в образованном обществе эволюционных взглядов многие продвинутые богословы стали избегать упоминаний об «аргументе часовщика». Во-первых, если не останавливаться на выводе, сделанном Пэйли, а попытаться подумать чуточку дальше, этот аргумент приводит к явному абсурду. В самом деле, допустим, что часы слишком сложны, чтобы возникнуть самопроизвольно – и значит, их должен был создать часовщик. Но часовщик – система гораздо более сложная, чем часы – что, по мнению Пэйли, доказывает, что он тем более не мог возникнуть сам собой; что его создал Великий Часовщик – бог-творец. Но тогда придется предположить, что этот Создатель сам как минимум настолько же сложнее человека, насколько человек сложнее часового механизма. И ему самому, чтобы существовать, требуется кто-то, кто его сотворил – какой-то Сверхсоздатель, «творец второго порядка». Который опять-таки неизбежно должен быть сложнее своего создания… и так без конца. Избежать этого опрокидывания в бесконечность (которое не только абсурдно в логическом отношении, но, и между прочим, представляет собой явную ересь) можно только допустив, что даже очень сложная система не обязательно должна быть создана целенаправленными действиями более сложной системы. Но тогда «аргумент часовщика» лишается всякой силы.
Во-вторых, «аргумент часовщика» неизбежно порождает неприятную этическую проблему. Если приспособленность всех живых существ к их образу жизни – это результат воплощения замысла Творца, то значит, этот замысел требует, чтобы хищники убивали своих жертв, а паразиты – питались соками хозяев и выедали их изнутри. Хуже того: получается, что этот Творец дал хищникам средства для нападения, а жертвам – средства для защиты или спасения иным образом. Милостью Творца блоха может жить в шерсти грызуна и питаться его кровью (и не может питаться ничем другим). Милостью Творца чумная палочка может размножаться в пищеварительном тракте блохи и закупоривать ей пищевод – что обрекает блоху на скорую мучительную смерть, но до того заставляет непрерывно кусаться и активно скакать, обеспечивая чумной палочке перенос с одного хозяина на другого. Милостью Творца грызуны (как и другие млекопитающие) обладают сложной и совершенной системой адаптивного иммунитета, предотвращающей размножение в их организме вредоносных микробов – но его же милостью чумная палочка снабжена приспособлениями, позволяющими преодолеть эту защиту[1]. То есть если додумать «аргумент часовщика» до конца, получается, что Творец несет прямую моральную ответственность за всю жестокость, творящуюся и творившуюся на протяжении сотен миллионов лет в живой природе! Такая хула на бога может покоробить и закоренелого атеиста[2].
Тем не менее эти трудности не опровергали «аргумент часовщика» по существу. В самом деле, если живые организмы не сотворены разумным началом, то как они могли возникнуть? Не в результате же случайной игры слепых природных сил, хаотической броуновской пляски молекул? Правда, некоторые материалисты XVIII века всерьез утверждали именно это – но поверить в такое было, пожалуй, не легче, чем в бесконечную «матрешку» из всемогущих творцов. А третьего, казалось, не дано: целенаправленное творение либо случайное совпадение. Что же еще-то может быть?
Конкретным ответом на этот риторический вопрос и стала теория Дарвина, предложившая механизм, не включающий ни разумного начала, ни невероятного совпадения случайностей. Механизм, позволяющий формирование сколь угодно сложных и совершенных структур без какой-либо заранее заданной цели. Неважно даже, так или не так возникали в действительности те или иные живые формы, – уже сама логическая возможность дарвиновского механизма непоправимо рушила исходную посылку в рассуждениях Пэйли. После Дарвина представить себе самопроизвольное, не направляемое ничьей разумной волей возникновение тончайшей взаимной согласованности всех частей живой природы было уже не невозможно. Более того – теория Дарвина объясняла эту согласованность гораздо лучше, чем теория разумного творения: структуры, которые в теории творения выглядели так, словно их делал пьяный сантехник (сетчатка глаза позвоночных, возвратный гортанный нерв жирафа и т. д.), в свете дарвиновской теории оказываются вполне логичными и естественными. Приспособления к хищничеству или паразитизму объясняются с тех же позиций (и так же просто и убедительно), что и все прочие приспособления; не нуждается ни в каких дополнительных предположениях и наличие у жертв средств защиты, неравномерность их распространения и их неабсолютная эффективность. Но даже если бы модель Дарвина не обладала всеми этими достоинствами – уже один факт ее существования и логической непротиворечивости делал бы «аргумент часовщика» совершенно несостоятельным.
Но, как и в нашем детективном сюжете, опровержение доказательства некого утверждения не означает автоматически опровержения самого утверждения. Например, в XVII – XX веках разные авторы предложили несметное множество «доказательств» Великой теоремы Ферма. Все они оказались неверными и были опровергнуты – что, однако, не означало неверности самой теоремы, корректно доказанной в 1994 году канадским математиком Эндрю Уайлсом. Теория Дарвина опровергает «аргумент часовщика» – но не идею бога как таковую. (Строго говоря, она не опровергает даже идею непосредственного творения – поскольку эту идею в принципе невозможно опровергнуть, так как из нее не следует никаких проверяемых предсказаний.) По отношению к идее бога теория Дарвина – как, впрочем, и все другие естественно-научные теории, от самых фундаментальных до сугубо частных – строго нейтральна: она равно совместима как с верой, так и с атеизмом.
Не удивительно поэтому, что среди крупнейших ученых-эволюционистов мы встречаем людей с самым разным отношением к религии – от радикальных материалистов и воинствующих атеистов до глубоко религиозных последователей конкретных конфессий, пронесших свою веру через крайне неблагоприятные обстоятельства. «До появления теории Дарвина не верить в Бога было невозможно, так как не существовало никакого другого объяснения целесообразности живых форм. Дарвин предложил такое объяснение и тем самым дал нам выбор: верить или не верить. Теперь я могу верить в Бога не по принуждению, а совершенно свободно, и за это я благодарен Дарвину», – пишет современный российский биолог, православный христианин.
Этими мудрыми и гордыми словами мы, пожалуй, и закончим.
[1] Некоторые современные креационисты пытаются разрешить эту проблему, утверждая, что приспособления к хищничеству или паразитизму возникли уже после грехопадения человека – как результат испорченности мира. Эта наивная уловка не только явно противоречит палеонтологическим данным (свидетельствующим о существовании специализированных хищников за сотни миллионов лет до появления человека), но и рассыпается при малейшей попытке вдуматься в нее. Как выглядели и как были устроены, какой образ жизни могли вести паук или акула, клещ или аскарида до «грехопадения», если весь облик и все поведение этих животных определяются их нынешним образом жизни? Откуда взялись защитные приспособления у мирных существ? Если их создал бог (уже после грехопадения), то почему он дал их не всем, кто нуждается в защите, и почему их эффективность не абсолютна: всегда находятся хищники и паразиты, способные преодолеть эту защиту? У вполне мирной орхидеи рода Brassia цветок похож на паука – настолько, что осы-парализаторы, охотящиеся на таких пауков, нападают на эти цветы, пытаются их ужалить и при этом невольно опыляют. Кто мог создать это удивительное приспособление, явно эксплуатирующее стабильные отношения определенного вида хищников с определенным видом жертв? Такие вопросы (а их можно задать еще много) ясно показывают, что мы имеем дело не с объяснением, а с имитацией объяснения.
[2] Судя по письмам и дневниковым записям Дарвина, примерно такие соображения привели его к отходу не только от идеи непосредственного творения, но и от религии вообще. Можно сказать, что Дарвин перестал верить в бога из уважения к нему.
До и после
Бывает знание истории или ее незнание. А бывает ее понимание. Или непонимание. И это далеко не всегда совпадает.
Не совсем правильно говорить, что одни люди нравственны, а другие безнравственны. То есть такое, разумеется, бывает. Но чаще всего дело в том, что разные люди живут, действуют, мыслят и говорят в соответствии с общепринятыми этическими нормами совершенно разных эпох.
И в этом случае правильно говорить не о безнравственности, а скорее о чем-то ином, что можно очень приблизительно определить как историческую невменяемость.
А невменяемость закрыта для всяческой логики. Поэтому с защитниками и заступниками всех людоедов и двадцатого, и тем более нынешнего века спорить в принципе невозможно.
Не менее трудно спорить с теми, кто имеет обыкновение оправдывать всяческие пакости тем, что, например, в средневековой Европе вообще еретиков сжигали на кострах, а у нас сегодня ограничиваются всего лишь мягкими «двушечками». «Кто ж из нас гуманнее?» — риторически спрашивают они.
И как объснить, что в Европе Cредние века давно уже миновали, а у нас тут они в самом разгаре.
Историческая невменяемость — это не обязательно историческое невежество. Это фатальное непонимание очень, казалось бы, очевидной и простой, но очень важной вещи. Это непонимание того, что в истории все события, явления или целые эпохи делятся на «до» и «после» и определяют ход социальной мысли и нормы социального и культурного поведения.
Все то, что представляется правильным или по крайней мере возможным ДО, может быть неправильным, невозможным а то и преступным ПОСЛЕ. И наоборот.
Что может быть смешным и забавным ДО, то совсем не смешно ПОСЛЕ. И наоборот.
История двадцатого века существенно разделена на «до войны» и на «после нее». На «до Холокоста» и «после него». На «до ГУЛАГа» и «после него». На «до аннексии Крыма» и после. И так далее. Примеров много.
Проявления в наши дни любых, даже самых, казалось бы, невинных форм хоть бытовой, хоть идейной ксенофобии мы наблюдаем не ДО, а ПОСЛЕ Холокоста.
Награждения отдельных граждан и целых коллективов и сообществ званиями «иностранных агентов» или, пуще того, «предателей и врагов отечества», осуществляются не ДО, а ПОСЛЕ ГУЛАГа.
Сталинист до ГУЛАГа и сталинист после него — это совсем разные сталинисты.
Бытовой антисемит до Освенцима и после него — это совсем разные антисемиты. Оба неприятные, но несопоставимо разные.
Кое-что, сказанное или написанное ДО Второй мировой войны, не всегда правильно квалифицировать как, например, фашистское. А вот то же самое ПОСЛЕ — да, безусловно.
«Крым» случился не ДО, а существенно ПОСЛЕ гитлеровских аншлюсов и аннексий. И то, с чего начиналась Вторая мировая война, и то, чем она закончилась, не может служить строгим назиданием только для злостных прогульщиков уроков истории.
Та часть человечества, которая сумела понять, что она живет ПОСЛЕ самой страшной во всей мировой истории войны, говорит: «Never again». Другая, которая упорно живет ДО нее, говорит: «Можем повторить».
Ясное, но трудно дающееся понимание того, что любая история «после» существенно влияет на социальное и коммуникативное поведение цивилизованного человека, существенно корректирует его поведенческие коды.
Пресловутая политическая корректность, возникшая как защитная реакция на некоторые катастрофические события двадцатого века, как вакцина против некоторых смертоносных идей, породивших не менее смертоносную практику, сколько бы ни издевались над ее издержками и «перегибами», сколько бы ни говорили, что она, политкорректность, убивает искренность и юмор, очень важна, потому что выстрадана трагическим опытом человечества. А искренность никуда не денется. Юмор — тоже. Он лишь изменит общественные или частные представления о том, что смешно, а что не очень. Нам ведь теперь далеко не всегда смешно всё то, что казалось гомерически смешным людям прошедших веков.
В записных книжках Лидии Гинзбург есть такая запись:
Психологический детерминизм XIX века объяснял поведение и тем самым его оправдывал. Но социальную функцию оправдать нельзя. Нам нет никакого дела до личных свойств и частных настроений фашистов и сталинистов. Они только функция — зло чистой пробы.
Мысль, казалось бы, бесспорная. Но будет все же не лишним добавить, точнее, напомнить, что девятнадцатый век был ДО двадцатого, а не ПОСЛЕ него.
Не так давно я почему-то вспомнил об одном своем уже давнем поэтическом тексте под названием «Дружеские обращения».
Текст был написан в 1983-м, в один из тех годов, когда у меня и у людей моего круга возникло и день ото дня крепло ощущение остановленного времени. Идиома «последние времена» казалась не художественным образом, а рутинной реальностью.
Единственное, что хоть как-то могло развлечь погруженных в анабиоз граждан, — это телевизионное зрелище ставших уже почти серийными похорон. Эти серии сменяли друг друга так стремительно, что Колонный зал Дома Союзов едва успевали проветривать до прибытия очередного гроба с очередным «верным ленинцем» внутри.
Этот мой текст выглядел как череда то ли почтовых открыток, то ли подсунутых под дверь записок, адресованных анонимному другу. А поэтому и каждый фрагмент текста начинался со слов «Дорогой друг».
В числе прочих «обращений» было и несколько таких:
«Дорогой друг.
После времен, о которых сказано, что они последние, могут последовать и иные, о которых не знаешь, что и сказать».
«Дорогой друг.
После слов „Нет. Так больше невозможно“ что-нибудь еще может быть?»
«Дорогой друг.
После всего этого и многого другого что-нибудь еще может быть?»
«Дорогой друг.
После всего, что может быть, что еще возможно?»
Легко заметить, что при всем несходстве той эпохи и нынешней тогдашнее ощущение невыносимости происходившего вокруг и вместе с тем спасительное ожидание чего-то другого (не лучшего, не худшего — другого) были в чем-то весьма схожими с ощущениями нынешними.
А потому и вечный вопрос о том, живем ли мы после того, как было ДО, или до того, как было ПОСЛЕ, так и остается открытым.
Поиски длиною полгода. Часть 1
Автор: Григорий Рудяшко, на момент написания работы ученик 10 класса, х. Гапкин, Ростовская обл. Научный руководитель Елена Михайловна Московкина. 3-я премия 19 Всероссийского конкурса «Человек в истории. Россия – ХХ век», Международный Мемориал.
Исследовательская работа иногда начинается в тот момент, когда ты даже не собираешься этого делать. Моя большая поисковая работа началась тёплым апрельским днём 2017 года. В этот день по сложившейся традиции нашей школы я вместе с учителем трудового обучения и одноклассниками прибирал на гражданском кладбище могилы советских солдат, погибших при освобождении хутора Гапкина в январе 1943 года. На могилках не было никаких фамилий. Три могилы были расположены в середине кладбища, две ‒ на окраине. Я заинтересовался, известны ли имена тех, кто похоронен в этих могилах. На что получил ответ, что выяснить имя ни одного солдата не удалось.
Возможно, эта история так и закончилась бы, но спустя несколько дней, на классном часе учитель показал нам видеофрагменты бесед с жителями нашего хутора о Великой Отечественной войне. Один фрагмент заинтересовал меня больше всего.
Бывший учитель нашей школы Леонова Людмила Анатольевна рассказала: «Я не являюсь ребёнком войны, я родилась гораздо позже. Но могу поведать вам, ребята, что вспоминала о периоде оккупации моя свекровь. В нашем хуторе на месте современного клуба располагался в январе-феврале 1943 года ХППГ 4166. Многие жители хутора помогали медикам в их непростом деле. Среди них была и моя свекровь. Она перетаскивала раненых к самолётам, приземлявшимся на окраине Гапкина: иногда на саночках, иногда на брезенте. Почему-то ей запомнилась красивая молодая женщина в пуховом платке. У неё были нерусские черты лица. Свекровь считала, что она была врачом. Эта девушка была ранена в грудь. В госпитале её спасти не удалось. Она похоронена на нашем хуторском кладбище».
Женщина-медик, ещё и нерусская, ранение в грудь, смерть в госпитале 4166 ‒ это были уже реальные факты, которые могли помочь в поиске имени погибшей девушки. Эта история не оставила меня равнодушным, и уже в тот же вечер я принялся за поиск.
Главной моей целью было выяснение имени медика и уже последующее за этим открытие имён остальных солдат, похороненных в братских могилах. Очень хотелось увековечить на памятниках их имена, чтобы последующие поколения помнили об этих солдатах и не забывали ухаживать за могилами.
Для поиска информации о полевом подвижном госпитале 4166 я воспользовался доступными мне ресурсами «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа». Около недели я искал медиков, погибших в Николаевском районе, к которому в годы войны относился хутор Гапкин. В ходе поисков было выяснено несколько имён. В частности Кравченко Анна Ивановна, Решетова Степанида Васильевна. Была установлена связь с командиром поискового отряда «Донской» Градобоевым Вячеславом Александровичем, который сообщил, что так звали, по его данным, девушек-медиков, погибших в нашем районе, но ни одна не подходила под описание. Все ниточки были оборваны. Я пытался найти информацию о госпитале 4166, но данные были очень отрывочные и не приближали в разгадке. Удалось выяснить, что госпиталь с таким номером относился к 5 ударной армии.
Полное его название – хирургический полевой подвижной госпиталь. «Это было военно-медицинское лечебное учреждение действующей армии, предназначенное для оказания в полевых условиях раненым и больным квалифицированной хирургической помощи и их лечения; при усилении группами специализированной медпомощи использовался в качестве специализированного госпиталя.
ХППГ был создан в декабре 1942 г. при реорганизации полевых подвижных госпиталей. Госпиталь был рассчитан на 200 коек и имел в своем составе управление, два мед. отделения и подразделения обслуживания. Наличие транспорта позволяло оперативно выдвигать госпиталь в заданный район, а имевшийся палаточный фонд позволял развертывать госпиталь в любых условиях местности».
Данный ХППГ находился в районе боевых действий в период 23.08.42-12.09.42, 10.12.42-05.09.44, 30.10.44-09.05.45. Ведущим хирургом госпиталя был Кованов Владимир Васильевич, спасший большое количество раненых. Руководил этим ППГ Абрам Моисеевич Дубницкий. Из воспоминаний Самолётовой Анны Андреевны стало известно, что госпиталь следовал за своей армией до самого Берлина: «До самой победы я служила операционной сестрой в хирургическом полевом подвижном госпитале-4166 в звании старшины медицинской службы. Дорогие мои юные друзья! На ваш вопрос, что памятное осталось от войны…. Я бы хотела, чтобы вам никогда даже не снилось то, что пришлось пережить и видеть нам. Памятное от войны осталось то, что я, медсестра ХППГ 4166, 2 мая 1945 года подписалась на стене рейхстага: «Здесь была из деревни Дятлино Чувашской АССР Самолетова Анна Андреевна, 1920 года рождения».
Открытием для меня был документ, который извещал о том, что Кравченко Анна Ивановна, которая считалась погибшей под хутором Новая Деревня 11.01.1943 года осталась жива.
Мне и моему классному руководителю, который тоже увлёкся этой историей, удалось установить связь с племянницей Анны Ивановны ‒ Галиной Барановой. В ходе переписки с ней выяснились следующие сведения:
«Анна Ивановна родилась на Украине в 1919 году. Спасаясь от голода в 30-е годы ХХ века, её родители, Иван Михайлович и Марина Тимофеевна, вместе с детьми Анной, Алексеем, Марией и Таисией переехали в Сибирь.
Они поселились в деревне Уч-Пристань (сейчас Усть-Пристань) Алтайского края. Старший брат Алексей перед войной работал учителем. Летом 1941 года он был призван на фронт. Алексей считался долгое время пропавшим без вести, только в последние годы семье удалось узнать, что он попал в плен и погиб в концлагере. По данным ЦАМО с 30 марта 1942 Анна сражалась в 1328 стрелковом полку 315 Мелитопольской Краснознамённой стрелковой дивизии, сформированной весной 1942 года в городе Барнауле Алтайского края, в должности санитарки (несколько десятков раненых вынесла с поля боя рядовая Кравченко). В январе 1943 года 315 стрелковая дивизия принимала участие в боях за освобождение среднего и нижнего Дона. В районе хутора Новая Деревня 1328 стрелковый полк вышел в тыл противнику и оказался в окружении. За этот хутор завязался ожесточённый бой. Анна Ивановна Кравченко (по донесениям о безвозвратных потерях) считается погибшей 11 января 1943 года и похороненной в братской могиле в Новой Деревне. Уже после войны останки воинов были перезахоронены в братскую могилу хутора Гапкина. Родители получили похоронку на дочь.
Какова же была их радость, когда в 1946 году считавшаяся погибшей дочь вернулась домой. Оказалось, что она была тяжело ранена во время танковой атаки немцев, следствием этого стала ампутация обеих ног.
Но Анна Ивановна не пала духом, она научилась ходить на протезах. Её племянница Галина Баранова написала нам: « А Анна действительно пришла с войны на протезах (по рассказам моей мамы), работала в военкомате, в секретном отделе, но болела, и однажды упала и умерла прямо на улице, примерно в 1947 году». Вот так трагически сложилась судьба этой отважной и удивительной девушки, удостоенной высоких воинских наград: Ордена Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».
Новые открытия окрыляли, но никак не приближали к разгадке тайны. Лишь только в конце лета я вернулся к этой теме. Руководителями нашего краеведческого музея мне было предложено уточнить имена и персональные данные воинов, погибших при освобождении хутора Гапкина. Я с удовольствием взялся за эту работу, которая сулила, как я предполагал, много открытий.
Действительно, открытия подстерегали на каждом шагу. В частности удалось выяснить, что из 413 воинов, чьи имена высечены на братской могиле хутора, есть много имён людей, которые остались живых в январе 1943 года и умерли гораздо позже, уже после войны.
В частности, Винокуров Василий Петрович. Есть выписка из госпиталя от 18.02.43 из ЭГ 1676, которая гласит, что он направлен в Саратовский ВПП, 21.07.1944 награжден Орденом Славы 3 степени, разведчик 1419 самоходного артполка 7 гв. танкового корпуса 1 УкрФ.
Для того, чтобы разобраться в причинах такой неразберихи следует вспомнить о событиях тех январских дней.
23 ноября 1942 года немцы были окружены под Сталинградом. 2 февраля 1943 года 22 дивизии под командованием фельдмаршала Паулюса были уничтожены. Посланные им на помощь войска генерал-фельдмаршала Манштейна были разбиты и откатывались на Запад. В директивном указании Верховного командующего и Генерального штаба Красной Армии говорилось: «Не дать проскочить через Ростовскую горловину на Запад отступающим фашистским войскам группы «А» с Северного Кавказа. Для этого 2-й Гвардейской Армии решительным наступлением в общем наступлении на Батайск‒Ростов 03.01.1943 года освободить Цимлянскую, 4-го, но не позднее 05.01 – Константиновскую». Мороз стоит до 20-30 градусов, валит снег, и свободный степной ветер создаёт снежную круговерть. Прекращается пурга, сразу же садится густой туман. Командиры беспрерывно сверяют свои топографические карты с местностью, а она со всех сторон одинакова.
В начале января 1943 года фронт придвинулся к хуторам Ермилов, Калинин, Савельев, Гапкин, Лисичкин. 7-15 января шли кровопролитные бои за их освобождение. Правый берег реки Кагальник со стороны х. Гапкина оказался для гитлеровцев удобным оборонительным рубежом, так как отсюда местность просматривалась на несколько километров.
В таких условиях со стороны хутора Савельева советским войскам трудно было перейти реку. И всё же бойцы смогли перетащить на себе через Кагальник тяжёлое вооружение. Одно орудие провалилось под лёд. Бойцы оказались в ледяной воде. Но, несмотря и на эту трудность, орудие смогли вытащить на берег, и оно вступило в бой. Подоспела «Катюша». И полетели в сторону врага, через хутор, оранжевые сполохи. Немцы не выдержали, стали отступать. В это же время шёл жестокий танковый бой между хутором Гапкиным и Ростовским садом. В нём участвовало более 100 боевых машин с обеих сторон. Немецкие танки стали отходить в сторону х. Лисичкина, где сражение и закончилось.
Окончание следует